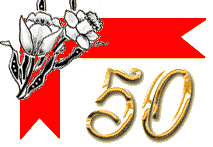ИНТЕРВЬЮ, октябрь 2001г. (Запись интервью - В. Антропов)
ВА: Меньше всего хотелось бы "воспарить". Займемся поиском примет, пытаясь побороть в себе и читателях искушение "знать, что есть Поэзия" и рассуждать свысока. ВЛ: Хорошо бы сделать не голое интервью, а размышления с элементом собеседы-интервью. Тут просто ситуация, пока еще внове (наверное) для определенного круга Инетовской братии - пятидесятилетний юбилей. Этот юбилей достался мне, кажется, первому в ЛИМБе. И это повод как бы устроить одну из репетиций последующих юбилеев. Которые не за горами. Первый, так сказать, опыт. (или блин, который - комом) С малюпусенькой долей приколизмов, чтоб не слишком на маститость претендовать :) ВА: Меня всегда крайне забавляло неуклюжее смущение, с какой биографы говорят о первых стихотворных опытах героев своих публикаций. "Еще юношеские стихи", "неудачный сборник", "потом не упоминал" соседятся со скандальным бытописанием и толкованием снов по Фрейду. Между тем, протянутая из первых стихотворений нить не теряется, за исключением случаев, когда сам поэт ее обрывает. Приходилось ли тебе эту нить обрывать, или это глубинное чувствование пейзажа, которое так явно в твоих стихотворениях, было составом и самых первых строк? ВЛ: Володя! И то, что теперь изредка случается, - не регулярно, а уж тем паче - с чего начиналось. Начиналось, - как ни банально, - достаточно рано, и уж точно - неуклюже и беспомощно. Да и что могло появляться в тринадцать-четырнадцать у совершенно заурядного провинциального пацана? Место моего детства и взросления - не большие центры или города уровня того же Гродно - рабочий поселок недалеко от Волковыска. Лев Гунин, знакомый с теми местами, и то, возможно, не скажет точнее, где это. И не найдет сказать, чего там примечательного. Позднее - в восемнадцать, двадцать, двадцать пять - было не лучше. Слава Богу - что шло это стихотворчество не сплошняком, а эпизодическими попытками, со скороприходящим пониманием, что плохо. Когда не понимал сам - находились люди - подсказывали, грамотно и убедительно. К тому времени, это был уже Минск, где я учился в политехническом институте. То есть, чтоб не предстать уж совсем самоуничижающимся, какие-то задатки наблюдались, коль скоро были, люди, которые обращали на меня внимание и воспитывали меня. Не из безнадежных, стало быть. Самый ценный опыт от всего этого - постепенно слагающееся и крепнущее все более и более с возрастом достаточно твердое понимание того, как у меня не должно быть. Можно, пожалуй, присовокупить к этому достоянию и то еще, что понимания столь же отчетливого, как "должно бы быть", к счастью, тоже не сложилось до сих пор - и, еще раз - слава Богу, - потому что это не дает возможности заматереть, упиваться своей якобы значимостью и пилить по наезженой колее... Я не помню, отчего и как случались стихи. Понимаешь, в какой-то момент времени просто понял, почувствовал, что могу не просто говорить, а в состоянии сложить ритмический и как-то рифмованный текст. Конечно же - с банальнейшими рифмами и с неисчислимыми междометиями, для соблюдения метрики. Я ведь с раннего возраста старшими натаскивался на декламацию стихотворений, поэтому было достаточно возможностей для того, чтобы появилось чувство стихотворного текста. А вот содержание - здесь говорить просто не о чем. ВА: Что готовит строки сейчас? - пейзаж? ВЛ: Э-э-э… Пейзажи получаются? ... Из тех малочисленных книг, о том, как пишется (предпочитаю таки читать непосредственно стихи или художественную прозу, нежели аналитику или критику), так вот - из тех книг, что мне довелось прочесть - "Живопись словом" Галанова. Вот из этой книги да еще из других источников, - постоянно ведь существует обширнейшее информационное поле, из которого что-то выхватывается непрестанно урывками, стихийно, - выработавшееся со временем чувство образности конкретизующих деталей. То есть, одно дело: просто "река" в тексте - проскальзывает незамеченным, как правило. И другое "обильный снег незамершей реке" - здесь уже детализованная и потому несколько более зримая картинка. Ну, а способность наблюдать такие картинки вокруг себя постоянно - это же всеобщее свойство человека. Способность детально говорить пейзаж - от способности видеть его деталями, тренировка и некоторые дилетантские познания из того, как работает художник. Все мне бывало интересно, и теперь - порой. Подчас, стих встает действительно, - от пейзажной картинки, которая в итоге оказывается лишь фрагментом в теле, ни в конце и не в начале, хотя именно она была первой фразой... ВА: …музыка? ВЛ: Вот тут, - чтоб работе помешать? - соблазн по местному радио объявление: шестого в нашем драмтеатре Юрий Кукин. Одна из первых моих любовей и в некотором смысле - наставник, воспитатель. Я был еще подростком. Кукин был в Минске; на телевидении, записали его передачу, была в эфире. Я ее видел и проникся. Потом не один год пока транслировалась только настроечная таблица днем - задолго до непосредственного вещания, под эту таблицу крутились песни Кукина. Сначала только его, потом постепенно стали появляться другие барды А радио "Юность" в то время больше было наполнено "Атлантами" Городницкого - я их тоже впитывал ух как! Сам пытался бренчать на гитаре. И не то, чтоб совсем без муз. способностей; музыкальную школу окончил по классу баяна, только не очень хорошо учился - не из-за отсутствия способностей, у меня музыкальные гены; я же уже писал тебе, что мой меньший брат учился в Минской спецшколе по музыке и изоискусству. а потом окончил институт Гнессиных и теперь музыковед при степени и с книгой. У меня же с раннего-раннего детства и на всю жизнь застарелый невыправленный вывих левой руки - не дано мне быть музыкантом. И баян - больше не ради того, чтоб музыке учился, хотя и не без того - знание, представления, вкус воспитывался; минимально нотную грамоту познал и чуточку теории; что-то из области музыкальной литературы. Но основная задача была - работать левой рукой, хоть как-то ее регулярно нагружать, чтоб совсем не атрофировалась - хитрости взрослых. Так о чем я - о Кукине… А причем тут моя рука? - при том, что не пошло у меня в бардовскую сторону из-за этого, может быть. И, как итог - попытка преодолевать тягу текста к песенности. Но музыкальность, в смысле - звукопись, говорят, наличествует… ВА: …история?… ВЛ: Экивоки к историческим сюжетам?.. Если немножко забежать вперед по линии становления (предположительной линии) этого восприятия истории, приведу такой пример. Когда-то у поляков в Червоных Гитарах был такой музыкант Кшиштоф Кленчен. В претензии на лидерство в коллективе он не уступал Северину Краевскому и в конце-концов дело подошло к тому, что ушел из Червоных Гитар и собрал другую команду - "Три короны". Уход оказался не вполне оправданным, поскольку Червоны Гитары остались одним из самых известных польских ансамблей, а Три Короны просуществовали недолго, известности за пределами Польши не получили, и карьера Кленчена, кажется, на том и закончилась. Но я вспоминаю эти события вот почему: с Тремя Коронами Кшиштоф сделал несколько на мой взгляд достаточно интересных хитов и один из них гласил: "Не войдем в историю с гитарами в руках!" Полемизируя про себя с этим заявлением, я почувствовал, что не так; что - вошли. Ведь все, что переживается нами в нашем "сегодня", что как-то фиксируется материальным миром - в периодике, на пластинках, в чьих-то письмах - это все объекты, которые передают будущему элементы настоящей, нынешней, - в смысле, - жизни. Прямо или косвенно все это участвует в формировании будущего, и, подобно тем терракотовым статуэткам из ритуального или повседневного обихода древних египтян или греков, которые можно видеть, скажем, в Эрмитаже, может стать предметом скрупулезного изучения будущих историков. А еще мне постоянно кажется, что современность отличается достаточно интенсивным обращением к наследию прошлого и сейчас возникает как бы сплошное поле истории. Было так, что у почти всех народов случались эпохи как бы безвремения, когда связь с даже не очень отдаленным прошлым утрачивалась и прошлое забывалось, а представления о том, как было раньше - искажались. Сейчас же, - пара-тройка столетий, - переемственность времен прослеживается в памятниках, архивах более отчетливо; и степень восполнения утраченных знаний о более отдаленном прошлом выше, то есть, все больше областей прошлого всего человечества становится с той или иной степенью достоверности нам доступно. ВА: И какова же судьба рождающегося стихотворения в дальнейшем? Взрыв? Волна? ВЛ: Вот, к примеру, утром в заполненном автобусе перед твоим лицом рука, кисть девушки. И такое неодолимое желание поцеловать или хоть вскользь прикоснуться к ней. Или разглядывать, не отрываясь, эту девушку. И в душе поднимается такое волнение... Девушку в упор разглядывать несколько неловко, неприлично, поскольку ей это, вдруг, неприятно. Остальной окружающий мир более терпим - его разглядывай, приникай к нему - не отринет. Вот поэтому зарисовки пейзажные шире присутствуют. Но ощущения почти те же самые. Как всегда хочется любить, быть любимым, и чтоб это чувство не притуплялось, и чтоб постоянно с этим новизна - так иписать, творить тоже всегда хочется. И как любовь не переживается постоянно, так и стихи случаются отнюдь не каждый день. И тут не взрыв или волна, в моем случае скорее "волнение" - много волн. - Непрекращающееся желание, желание испытывать желание, ожидание, постоянное прояснение, жадная ловля крох и подарков судьбы ("нечаянные платья откровения") и вот тот момент - ты вдруг становишься всем мирозданием. Самый редкий и самый счастливый момент жизни, и самый результативный. Ибо это момент завершения творения. И иногда - небезуспешного. Чем не оргастические фрикции? - только все это длится гораздо дольше времени. С отключками, выпадениями. Рассыпался, погряз в "нуждах низкой жизни", рассеялся. И вдруг снова неодолимое влечение хотя бы видеть ее, новую незнакомку, "и сердце бьется в упоеньи", одно-единственное на сейчас слово, фраза. И, ух ты как ладно-то она стыкуется вот с той, поди, уж и забытой; и надежду на нее утратил. Эх! вот дальше пока не прорисовывается. Так, что ли... Не-а. Не годится. Вот не то что-то.. Может - так. Опять не то. Или... Что? Моя остановка. Жаль, такая привлекательная девушка, а выходить… Нет, нельзя ругать работу - кормит. И удовольствия (будь они неладны, да и в чем они, эти удовольствия?) оплачивает. А вон листик как вывернулся и сверкнул. Совсем, как тридцать лет тому назад, когда на рассвете в лес шел, грибы искать. А сто лет в лес не ходил, как сюда, во Псков приехал. Стой. Строчка же шевелилась. Так, не забыть бы. И с той сопрягалась. Так, приду в кабинет, первым делом - запишу в блокнот, старею - на память надежды все меньше. Да, а кабинет-то уже открыт. И времени уже немало, пора включаться в сеть; где там мои электронные ключи для регистрации (напридумывали безопасники) - а то Татьяна не успеет отчет подготовить к отправке, через двадцать минут. К сроку не успеем - по головке не погладят. А это что, бумаженция новая? Так, почитаем. И.... И когда теперь снова в душу западет: лицо, рука или "тысяча нечаянных касаний" ... ВА: И вот в этой постепенности - появлении и срастании строчек - намечается как бы общий "ландшафт" стихотворения - и его динамики, основы смысловой. Мы говорили о пейзаже, который постепенно проникает в стихотворение своей выявляющейся, детализирующейся стороной - но ведь то же самое можно говорить и о времени. Стих у тебя образует не только пейзаж, но - и время, что очень характерно. Время в ипостаси истории - насколько она жива для тебя? Что есть история в лирическом стихотворении? ВЛ: … Понимаешь, как растет ребенок, ну уже школьного возраста. Книжки читать начинаешь - там все так интересно. И получается картинка, здесь и сегодня все обыденно, скучно, неинтересно. А интересно - там, в книгах. Но там - это в другом месте, приключения у путешественников Жюля Верна, Фенимора Купера и т.д.; и в другом времени: в будущем (фантастика) или в прошлом (история). И вдруг - история - не только то, что у Дюма в "Трех мушкетерах" или в учебниках истории СССР - где история русского государства, которая в Киеве, Москве, Питере, или история основных мировых цивилизаций. Не приевшимся лозунгом, а настоящая, таинственная интересная - здесь, вот на этой земле, на этой малой родине. Моя, можно сказать, собственная история, истоия моей малой родины - эти древние шахты позднего неолита, которые обнаружены в наших меловых карьерах. Это - поход князей Галицких на Литву. А Литва - она тоже здесь, рядом. Вот он, совсем по-соседству тот самый Новогрудок, откуда Адам Мицкевич, где его Свитязь и "Свитязанка", про которую он (не Свитязянку - новогрудчину) писал: "Литво, ойчизна моя". И та самая Мария Мнишек - что в "Борисе Годунове" - "Слышу речь не мальчика, но мужа" - они, Мнишки, они каким-то образом тоже Новогрудские. И Огинские, из которых тот, который полонез "Прощанье с Родиной" - с нашими местами, с Новогрудчиной, тоже связаны. Там у них были имения. А еще до Екатерины Второй был у них ух, какой оперный театр на прудах! На воде сцена, акустика воздуха над озерной гладью. То есть, настоящая историческая Литва - не там, в Вильнюсе. Это она уже потом туда перебралась к аукшайтам. А "Хроники Быховца". Быховец не из Быхова (белоруская часть Днепра), он, может, родом оттуда, но Хроники - "Кроники (именно через "К") писаря Волковысского граничного суда Анжея Быховца" - первый документ об отвоевании Киева у татар, поход литвы, Гидеминоса. А первая русская печатная книга - Иван Федоров? - Как бы не так. У Федорова был товарищ и сподвижник - Петр Мстиславец (Мстиславль - опять белорусское Приднепровье), который до того был в команде у Франциска Скорины. А еще раньше - "Светло-светлая земля русская еси и многими красотами преисполнена еси" - не первый ли поэтический памятник русской словесности? Не Кирилл ли это Туровский? Дак Пинск и Туров - это же тоже надалеко. Особенно, если говорить о городе, где я родился - Кобрин. Это совсем рядом с Брестом. С этой героичской крепостью. А еще Кобрин - место ссылки Суворова - того самого, там он был в ссылке по велению Павла и Павлом из Кобрина же был вызван для того похода, когда получилось в итоге - через Альпы. А в Волковыске в 1812 году квартировался штаб Багратиона. А сколько таких крупиц рядом и около. Элоиза Ожешко - жила и работала в Гродно. ВА: А что насчет тебя в этом потоке? Помнишь, историю Моррисона, как он мальчиком с родителями ехал на машине и увидал попавший в аварию грузовик с индейцами - "их напуганные души бродили вокруг и одна - прыгнула прямо в меня. И она все еще там..." ВЛ: Не думаю, чтоб чем-то в этом отличался от других людей. Я рос в атмосфере семейных преданий. Не то, чтоб только эти предания непрестанно обсуждались дома, но и не без того было. Конечно, в этих легендах, своя родня приобретала как бы особо уникальные черты. Например, по отцовской линии, - я совсем мало об этом знаю, и теперь уже вряд ли смогу узнать, потому, что тетка, которая была хранителем этих преданий, недавно умерла. О тетке - разговор особый. Но вот предание гласило, что у бабушки со стороны отца (а ее девичья фамилия, меж проч - Бродская - может и совпадение, а вдруг... - нет? :) предки не весьма уж отдаленные имели торговые дома на Дерибасовской; а ее кузины были одна замужем за Красиным, тем самым, который потом знаменитый ледоход "Красин" из истории освоения советского Заполярья; вторая же - хорошо сидишь, не свалишься со стула? - замужем была за.... Плехановым. Маловероятно, но с другой стороны, если помнить, что сегодня мы знаем о 37-м, могло статься что и так не бог весть какой близости родство старались не афишировать и не навязывать, как бы не аукнулось совсем другой ипостасью. Но вот ведь представь, что можно ощущать в контексте прочувствования историчности времени собственного, имея за душой подобное предание. А еще богаче и чаще повторялись дома те или иные подробности преданий бабушки по линии мамы. Впрочем, это натурально, поскольку бабушка со стороны отца жила в Одессе; его сестра, та самая тетка - на Камчатке и их рассказы были чрезвычайной редкостью. А бабушка со стороны мамы жила с нами и все рассказывала сама. Многое повторялось или рассказывалось, когда мне хотелось уточнить какие-то детали. А жизнь ее - на целый роман, столько событий и встреч. Это и революция, которую она еще девочкой видела беженкой из Белоруссии в Коломне под Москвой, и послереволюционная голодуха. А прадед, ее отец, кажется, был телеграфистом в ставке императора с начала Первой мировой. А предание о другом, - совершенно не помню степени родства, - дальнем родиче, который рос бедняком, подпаском, тоже еще до революции, самоучкой выучился играть на пастушьей дудочке, услышал полковой оркестр, увязался за ними, бросив стадо, и остался, выучился до дирижера оркестра оперного театра с правом выступления перед императором (дирижер императорских театров). Следы его после революции затерялись. (Одесская бабушка, кстати, в пору своего студенчества, в советское время, подрабатывала игрой на скрипке в оркестре Одесского Оперного). А возвращение семьи маминой мамы (бабушки Поли) от голода назад, в Белоруссию. Гражданская война, феерия смен властей. Бойкая девчонка, хорошо запоминала и декламировала стихотворения. Ей поручали приветствовать гетмана Петлюру, когда тот "присоединял" Кобрин к Украине (и кулек конфет в то-то время - конфеты!, из рук самогО того сАмого Петлюры - как награда за стих ) . Членство в МОПР (международная организация помощи революционерам), только вот не сохранилось у нее ни членского билета, ни значка. Просто, когда один из ее братьев за активное членство в компартии Западной Белоруссии был схвачен дефензивой (политическая полиция в Польше Пилсудского) и умер замученный в Картуз-Березе (знаменитая тюрьма того времени), уничтожали всякий компромат, чтобы не навлечь беды на всю семью. А потом замужество за молодым диаконом. Живо предание, что у деда голос был уровня Шаляпинского. В западной Белоруссии обосновалось много белоэмигрантов - почти родина. У мамы крестным отцом был казачий есаул с Дона. Так вот, есть предание о странном госте, зашедшем к ним в дом после службы и с глубоким поклоном объяснившим, что он, этот гость, слушал как-то в Сан-Франциско Шаляпина, а в Кобрине, на службе, он услышал в голосе деда Шаляпина еще раз. А война, 1941 год. Бабушка еще до прихода Советов, до замужества, закончила учительскую препаранду (педучилище). Пока дети (тогда только двое, третий родился в 44-м) были еще малые - не работала. А Советы (в 1939 Западная Белоруссия и Западная Украина после разгрома Польши Германией вошли в состав СССР) дали ей работу учителя в вечерней школе(нужны были местные кадры). У бабушки начинался туберкулез - летом 41-го послали в санаторий недалеко от Минска. И тут - война. Бабушка пешком неделю шла домой, на запад, к Бресту. Сколько трупов советских солдат перед глазами… Пришлось, к примеру, взять у убитого кружку - всю ночь снился, преследовал. Вместе с ней шла молодая женщина с детьми - жена какого-то красного командира, начинала болеть, бабушка устроила ее с детьми в польскую семью; немцы бомбили, много домов рядом пострадало, а тот, где приютили ту женщину - уцелел. Местные католики восприняли, как знамение, а ведь сначала, ой как враждебно настроены были… Не только предания в словах хранили дома память истории… Из бабушкиного приданого ("похожая на бабушкино блюдце, старинного приданого привет"), например, ножная швейная машина Зингер. Да не просто швейная машина - с выбитой перемычкой в решетке основания, память от осколка бомбы, это уже когда наступала Советская армия. А еще простая деревянная шкатулка-портсигар - подарок пленного немца (немец сам сделал шкатулку). Рассказ, как такой вот немец, из пленных, голодный, зашел в дом, попросил еды. Время еще ой какое необильное было - а посадили за стол, дали, что было и для себя сготовлено. И тут другой, самый младший брат, уже призванный на службу в Советскую армию, зашел домой, разозлился, выгнал немца:"Наших бил, воевал против нас - а теперь есть у нас просишь!" Как прабабка моя его урезонивала. Как побежал, догнал немца, вернул. И как мне, пацану, было и того немца жалко-жалко, и и всю родню жалко, такая доля выпала... Это же все - живая история. Или вот еще такой аспект - кулинария. С детства помню одно блюдо. Оно связано с осенним или зимним забоем скота. Ну в каком смысле - забоем скота. Жили так, что было и возможно, и необходимо выкармливать поросенка. И когда его забивали, то иногда готовили такое блюдо, - в более позднем возрасте, лет с двенадцати я его уже не пробовал - больше не растили дома поросят, - берется часть желудка, переходящая в кишечник, по сути - это уже кишка. Из нее, - более широко известно, - чаще приготавливают зельц. А вот у бабушки - другое блюдо. После мытья, вымачивания в уксусе и прочей подготовки, типа натирания чесноком, эта кишка наполнялась тертым картофелем с небольшими добавлениями пряностей, мелко-мелко нарубленного сала, мелко шинкованного до кашицообразного состояния лука, и потом все это запекается в духовке. Вспоминая об этом блюде сейчас, я воспринимаю его как памятник совсем другого времени. Так уж получилось, на наше поколение выпала эпоха заметных перемен. Я ведь первые годы рос - и до сих пор хорошо это помню - при керосиновых лампах; до того, как отец был назначен директором школы в заводском поселке, мы жили сначала в одной, а затем - в другой деревне, где не было электричества. На моей памяти в дома приходил сначала привозной, а затем - природный газ. Лампы дневного света на улицах поселка. Вузовскую практику проходил на заводах, где вовсю еще работали ртутные выпрямители. Да и успел застать эти устройства молодым специалистом. А буквально через пять - семь лет - уже работал со станками с ЧПУ и на транзисторно-релейных элементах, и на микросхемах, и на микропроцессоре. Да что говорить, пятнадцать лет тому назад, когда я попал на работу на вычислительный центр нашей конторы Госбанка, я еще застал вовсю используемый ввод и вывод перфокарт. Ну как с такой жизнью могло бы не возникнуть это ощущение историчности времени, которое тебя заинтересовало? Тетка. Окончила Московский пед. Там хаживала в литобъединение. Из того института в те годы (конец пятидесятых) вышло несколько маститых. Римма Казакова. Моя тетушка немножко знакома была с Ю. Ковалем. В начале семидесятых она заметно промелькнула в "Комсомолке" серией заметок "С улыбкой об этикете" (Беата Бушелева). Вообще, она была каким-то магнитом. И одесский юмор. И неисчерпаемый (по представлениям скованного комплексами после развода родителей неуклюжего подростка) кладезь знаний мировой культуры и литературы. Блестящая, веселая, эрудированная. Цитаты к случаю и исключительно по памяти так и сыплются. Стихи писала легкие, озорные (это я позже узнал). Сам к тому времени я уже тоже марал бумагу в огромных количествах, но вот встреча с нею - это перевернуло самооценку, зародило сознание, что поэзия - нечто большее, чем размер и рифма. Только так и не стало ясно, что же? Это было одно из первых побуждений узнавать и узнавать. Как из унылого заточения (сам ведь себя заточал) в яркий, солнечный мир. Читал я в детстве и подростком жадно, не то, что теперь, но как-то бездумно. От нее, от тетки, вероятно, случился какой-то переворот. Открылся иной мир. Самое яркое и повернувшее мои представления впечатление от прочитанного в то время - Илья Эренбург "Люди, годы, жизнь" пятая и шестая книги. И тоже - история совсем-совсем недавняя. То есть - почти история уже при мне, только еще маленьком, ничего не понимающем и не знающем. Не только от тетки. Отцовская родня вся отличалась искрометностью. Рассказывала мама, что отец в одних трусах расхаживал по даче в Одессе, восклицая: "Я царь еще!" - (узнал "Годунова"?) Маме по складу ее характера это не соответствовало. А вот мне - нравится. Особо влиял на меня с раннего подросткового времени и всю жизнь друг и наставник Михаил Веретило. Имя, конечно, ничего не скажет тебе. Мы с ним сошлись, когда я стал увлекаться марками, и отец прислал мне свою мальчишескую коллекцию и некоторые книги о филателии. Представляешь - бесценное сокровище - от первых советских марок до самого начала войны. В том числе и довольно редкие, не самые раритеты, но… "Будь героем!" - первая марка войны - наверно самый редкий экспонат. Тоже - на воспитание исторического чувства. Миша, - а он старше меня лет на пятнадцать, то есть, когда завязывалась наша дружба, мне было лет 12, а у него уже был свой пацан трех лет, - он не только марками занимался, и у него была коллекция более серьезная. Он вообще - коллекционер: нумизматика, бонны, открытки… Краевед, поклонник истории. От него мои познания в истории той самой малой родины, о которой ни в каком учебнике мне бы было не узнать. Он же и как-то влиял и на мои вкусы в области поэзии, хотя это - меньше. Руки у него золотые - познания о работе красками, резьба - в значительной степени от него. Он привил мне вкус к живописи, от него познания о художниках. И вот это прорезывающееся осознание, что у меня что-то ладится, интересное кому-то, ему, по крайней мере. А ощущение, когда держишь в руках серебряный литовский грошик 158… года! Вот ведь какая странная судьба… Все самое интересное происходит не со мной, а с моими знакомыми, близкими. Миша вобщем-то причастен к тому археологическому буму, который случился в нашем поселке. Я писал тебе об экспедиции Гуриной. Но той экспедиции предшествовало обнаружение в меловом карьере древней шахты с останками человека. Миша, как патриот, о той находке сообщал в АН БССР. А про работы Шмидта (польский инженер, который первым обратил внимание на следы древних добытчиков кремня) узнал еще подростком, тоже находил заготовки кремневых стрел… Но гораздо интереснее случились две истории уже в мою бытность. Одна из них: когда я уже учился в институте, Миша как-то на окраине карьера обнаружил фрагменты костей. Заинтересовался и потихоньку стал копать. Вобщем-то что-то наподобие открытого листа ему выхлопотали, поскольку разработка меловых карьеров могла преподносить сюрпризы, а держать постоянную экспедицию ради такого случая было накладно. Поэтому Мише как бы разрешалось предварительно смотреть подозрительные находки в месте, планируемом к разработкам, с тем, чтобы он в случае необходимости, мог вызвать специалистов и таким образом, можно было провести раскопки до того, как все уйдет в карьер. Так вот, копнув слегка место, где были подозрительные кости, он вызвал минского археолога Чернавского. Копали с некоторой нервозностью - находка была странноватой, аналогий в Белоруссии и поблизости не припоминалось. Было ясно - захоронение домашнего скота, тоже довольно древнее. Миша давал волю нумизматическим фантазиям, и мечтал, что дол захоронения (днище могильника) будет выстлан золотыми червонцами. Чернавский мрачновато отшучивался: "А бутылку с запиской - осторожно! Чумные коровы! Ветврач Иванов - не хочешь?" Но все же, разбираться с захоронением было необходимо. На древность указывали не только останки животных, там были и образцы керамики. Но находка не поддавалась идентификации. Только уже после сезона, перерыв массу справочной литературы, ученые обнаружили, что наткнулись на захоронение домашнего скота, оставленное носителями культуры шаровидных амфор. В Понеманье да и в целом на западе СССР следов этой культуры (кажется) больше не встречалось. История. Моя причастность к истории, косвенная, но причастность. Среда, поле, которое как-то обнаруживает себя в стихах. ВА: Вторая ипостась: время жизни и время самого рождения стиха - взаимодействие их. Время жизни входит через слово - накапливая прочитанное, слышанное, опыт вообще. Время же рождения стиха - у тебя уникально по своей протяженности совпадает с течением не "вспышки сознания" - а течением самой жизни, и вот: как это откладывается внутри стихотворения? ВЛ: Понимаешь, стремление знать и понимать искусство приобретает новый уровень видения, когда пробуешь что-то сделать сам. Глаз переиначивается, что ли. Уже не просто наблюдаешь картинку природы, а видишь ее как бы мазками на холсте. Или то же с музыкой: совсем иначе ощущаешь ее звучание, когда хоть немножко представляешь, как должна работать рука, исполняющая это на инструменте. Как-то около года тому назад случилось мне видеть по ТВ какой-то сборный концерт с небольшой сюжетною завязкой, которая строилась на розыгрыше ожидания пианиста, Николая Петрова. Но когда Петров наконец оказался за инструментом, и камера буквально на мгновение показала его кисть руки в работе - как током ударило: впервые в жизни я воочию увидел уникальную кисть пианиста, о какой раньше только знал понаслышке. И в понимании, что же есть искусство музыки, возник какой-то новый аспект. А вот совсем недавно, этим летом, в Москве, в доме у брата слышал разговор музыкантов - педагогов высокого уровня. И ухватил из этого разговора еще одно замечание о том, что существуют такие сочинения, для исполнения которых никакой техники не достаточно. Не в смысле, что невозможно это исполнить, как раз наоборот, сейчас, например в фортепианной школе исполнителей, наблюдается какой-то прорыв овладения еще на уровне старших школьников сложнейшими приемами исполнительской техники. А все равно есть неисполняемые (чрезвычайно редко исполняемые) сочинения. Проблема в способности проникнуть в глубину замысла автора, осознать тончайшие движения души, водившие пером. И чтобы этого достичь, нужно наработать определенный жизненный опыт, который приобретается только с возрастом. И тем не менее, понимание деталей техники, работающих в создании художественного образа у других авторов не только изменяет уровень твоего восприятия - это как бы передает тебе в пользование более богатую палитру, если ты и сам пытаешься творить. ВА: И еще один важный вопрос - в чем для тебя при этом вырастании стихотворения - его атмосфера, его единство? Когда строка к строке "прилипает" постепенно - в чем-то должно содержаться это пред-чувствование, правда? Что говорит - "вот она, та строчка!". Движется ли эта цельность, или она как облако - еще не ясна, но уже определена и неподвижна? ВЛ: История - это то информационное пространство, одна из составляющих информационного пространства вне которого не могу существовать, как не могу существовать без атмосферы. Это эмоциональное воздействие, которое в конце концов разрождается новым стихом. Время. А знаешь, если про стих, с Труворова Городища начинавшийся... Тут еще один аспект стремления к знаниям. Что-то от физики и философии: "что есть время?" и вывод формулировка - мерило изменчивости мира. Время это то, что отделяет разные состояния в одной точке пространства, или то, что отделяет, фиксирует стадии перемещения из одной точки пространства в другую - то есть мерило перемены; "Время - мера перемен" - в итоге, после нескольких перестановок слов и переиначивания фраз. Вот ключ, от которого начинало вариться стихотворение; и сколько сопутствующего материала прошло и отмелось, прежде чем высторился мостик на Труворово Городище, здесь, под Псковом и в итоге - на этот стих. Я же не задумывал писать, например, и про княгиню Ольгу. Не собирался, но когда собралась одна строка - чуть позже - другая, вдруг осенило - про Ольгу! Но и дальше не знал, что же именно выйдет про Ольгу. Некий багаж исторических познаний - он присутствовал неявно. Он выбился именно в такой стих из подкорки, из подсознания. "С Игорем как поступили вы"? - а вначале проговорка "Вам мало ума у мальвы". Затем - продление: "Вы ль сами умами ль львы?" - каламбурство, забава, игра в поезде по дороге на родину, когда достаточно много времени, почти двенадцать часов принадлежишь самому себе, и извечная привычка ума не бодрствовать, пока не заснул - принесла эти строчки. Только потом, спустя недели и месяцы осозналось соотношение этой фразы с Ольгой и "Игорь - Горе". А еще ох как долго, больше года не ложилась рифма к Владимиру, и не оставляло осознание, что невозможно обойти эту рифму или переиграть текст так, чтоб без нее - что она получится опорной, заманчивой. Но еще до мучительности поиска этой рифмы отношение к Ольге фразой "А не Малуше ли выпало матерью стать Владимиру"? Ведь для меня в этой раскладке как бы мирозданческое знамение: Ольга не просто мстила древлянам за Игоря. И древляне не просто мстили Игорю за неумеренность в поборах дани. Нет - здесь геоисторический узел: за кем стать этой земле - за пришлыми с Игорем, или за своими, который спокон веков здесь, чьи предки здесь, чья кровь - соль этой земли. Мал не зря извел Игоря и сватался к Ольге, сделав ее вдовой. Ему надо было переиграть перспективу. Не дать пришлым извести корень своего племени, хотя сейчас силы у них, у северных больше, дружина злее и слаженнее, панцири надежнее, мечи острее. Знаешь ведь, у ряда народов наследование родовитости долго передавалось и передается по материнской линни. У евреев - еврей тот, чья мать еврейка, и только на втором месте - исповедание иудаизма. Тот, кто порожден и воспитан еврейкой, пусть и не от еврея - все равно - еврей, и ему дано постичь иудаизм, то есть - он все равно свой. Та же история и с Ольгой - мне кажется, что на самом деле она была дочкой Олега, и через нее Олег вклинивался своими родовыми корнями в род Рюриков, перебивал его и своим предкам давал жить в княжеском потомстве Рюриковичей - своей крови обеспечивал благоденствие в потомках. И Ольга стремилась укрепить эту позицию, изводя древлян и изничтожая Мала. Месть за Игоря - только повод, и кто знает, не было ли это интригой самой Ольги - подставить Игоря. Мужики, князья - непостоянны. Мог ведь и другую взять. И отвести лидерство от ее потомства. А что получилось в итоге - история, время переиграло и Ольгин - Олегов замысел, сведя сына Игоря, Святослава, с Малушей - дочерью Мала, которая и родила от Святослава Владимира. Теперь здесь же еще возьмем другой ракурс. Когда-то очень давно в журнале "Знание - Сила" попалась на глаза статья о предположениях происхождения славян. И карта. Точка - гипотетитеческая прародина славян - где-то рядышком с местом слияния Припяти и Днепра. Так. А что там сейчас? Рядышком Коростень. Коростень? - Искоростень? Тот Самый? - Кажется, тот!!! Чувствуешь, о чем получается речь, с рассуждениями о пришлых и здешних? А здесь еще завязочка к Чивилихинской "Память" (жаль, только сокращенный журнальный вариант в Роман-газете просмотрел, больше не сложилось и не одолел) -перемычка. "Рюрик" - очень похоже на польское "рурог" - сокол, и эмблема Рюриков - это же не трезубец! - Это (Чивилихинская расшифровка, может и он не первый ее обнаружил, но уж точно - не я) падающий на добычу сокол. А уже гораздо позднее после этого стихотворения, кажется, книга "Всеслав Полоцкий" из серии "Рюриковичи" - где варяжение - не от Варягов, что скандинавы. Варяжение - это ватажение дружины во главе с тем княжичем, которому не выпадает княжить на родовых землях, который уступает свое право иному наследнику по родительской ли воле, по праву старшинства иного брата или еще в силу каких обстоятельств. Ему больше жить ватагой, набегами, разбоем, только не на свое племя, и искать себе княжения в иной земле, или дожидаться, вдруг родина призовет, утратив того, кому раньше выпадает княжить до его вокняжения. Так что же переплеталось в том Искоростеньском узле между Ольгой и древлянами? Или Олег был не славянского корня, а скорее скандинавского - Олг и Олга, и уже оттуда истоки норманской теории российской государственности? А какие коллизии потом... Владимир и Полоцкая Рогнеда. Приметил, Ярослав Мудрый - Рогнедин сын?! И Ярославичи - киевские великие князья не садились в Полоцке, не перебивали Рогнедин род Изяславичей (Изяслав - родной брат, тоже от Рогнеды, только сейчас не вспомню, кто из них старше, Ярослав или Изяслав). Позднее уже Мономахичи пошли на север, на еще не родовые славянские земли Владимирщины, а Полоцк так и оставался местом, где княжение передавалось от Изяславова рода, и Ярославичи там не княжили.. Единственный случай - время полонения Всеслава с сыновьями в Киеве, но и тогда в Полоцке наместник киевского князя, а Полоцкое княжение не упразднялось. И гляди дальше - Мономах - сын гречанки (не путаю, или половчанки? Или половчанка - его жена?) Разбавлялась славянская кровь? Как бы не так! - Кто жена Александра Невского - мать Данилы, зачинателя ветви московских государей? - Брячиславна, опять - княжна полоцкая! Как от Рогнеды и Владимира - род великих князей киевских - читай - всея Руси, так от Брячиславны и Александра - через Данилу, князья, государи московские, опять же - всея Руси! Впрочем, и тверские - тоже. А московские - вплоть до последних правящих Рюриковичей. Коллизии... И все - вот это в одном "С Игорем как поступили вы..." Начальное же побуждение, толчок, мотив - абстрагированное слово, фраза. Пока еще безотносительная к какому-то конкретному образу. Просто играет незахватанное еще слово. Это самое "очарование меняющихся звуков". Понимаешь, ведь не каждый день внимание сосредоточено на милой леди, поскольку не каждый день в тесноте автобуса ты так близко-близко от этой умопомрачительной красавицы, что непрерывно ощущаешь всю ее. И не все двадцать четыре часа в сутки ты выкачиваешь разнообразные циркуляры и ПО по электронной почте на работе; сочиняешь и правишь должностные инструкции; измышляешь отчеты о проделанной отделом работе; распределяешь график отпусков или улаживаешь служебные конфликты. И не все двадцать четыре часа приходится выслушивать и оценивать разные сентенции домашних о их и моих житейских проблемах. Не постоянно "родня сквозь зубы цедит мне упреки". И не непрестанно в уши текут обожаемые Чеслав Немен, Сантана, Червоные Гитары или Увертюра к "Руслану и Людмиле", Интродукция и Рондо-каприччиозо Сен-Санса... Есть минуты, когда идешь до остановки или с остановки, и еще какие-то времена уединения с самим собой, когда "еще есть время до начала зноя..." - и вот тогда слова крутятся непрерывно. Непрерывно, потому что так мне хочется, чтоб они крутились. И чего-то там из них выстраивается. Приоткрываются "несуществующие тексты" Пока еще совсем неопределенные и ни о чем. Возникают и исчезают, забываются и вспоминаются. И больше девяноста девяти процентов всех этих движений срабатывает главное ощущение, что это что-то таки "не то" А Вот что же "то" - совсем не ясно. Только уже имеющийся жизненный опыт свидетельствует, что ощущение "того" возникнет непременно и неизбежно. Не знаю когда, но возникнет. Возникнет, если слова не перестанут проявляться в подсознании ли, или осознанно. Если перестанут - ничего не будет, а мне от этого "ничего не будет" всего муторнее - поэтому я стараюсь всякий удобный случай не упускать возможности прислушиваться внутренним слухом ко всем случайно всплывающим фразам и ощущениям. Это и ритм, и музыка и все-все - слова. Эта атмосфера совсем как та информационная, о которой говорил чуть выше. Вот когда уже фраза есть и пытаешься ее насильно развивать в каком-то, кажется осознанном направлении, ан, - ничего не получается. Как сказано:
ВА: Дух времени - атмосфера, характер людей, круг влияния. Кто в этом смысле - близок из поэтов, особенно земляков, ведь, не зря же Шешолина слал? Эта близость, творящая воздух, интересна. ВЛ: По мере подрастания я как-то все меньше и меньше читал. Не то, чтобы совсем забросил, но круг чтения как бы менялся и сужался. Я не прочел и малой доли, что имеется в арсенале прочитанного у большинства из наших общих знакомых по инету. Конечно, Пушкин. Еще - Блок и Маршак, особенно его переводы. Сонеты Шекспира в его переводах. Наслышан о том, что сонеты переводил Пастернак, но так и не встретил этих переводов. Немножко - западных, но буквально считанные - по одному-два стихотворения, например у Сальвадоре Квазимодо, у Пабло Неруды. Из современных особое место на долгие годы занял Вознесенский. Ахматову, Цветаеву, Мандельштама, Пастернака, Гумилева открыл довольно поздно. Это - к концу института. Тогда же - и знакомство с Лоркой, Бодлер, Ронсар (наследство от Эренбурга), Вийон. Уже в недавние годы - открыл для себя Кушнера и Олжаса Сулейменова. К концу института - спасибо нашему преподавателю эстетики - открытие Катаева "Святой колодец" и "Трава забвения" да еще Маркес "Сто лет одиночества" - появляется ощущение праздника, пиршества слова. Шкловский "ЗОО или письма не о любви". Особняком стоит Польша. Когда подрастать стал и пришла пора узнавать Битлов, очень рядом оказалась Польша и ее радио, которое в отличие от "голосов" вобщем-то не глушилось, потому как не на нас вещало, и на польском языке. Но в наших краях с этим больших проблем не было, местные диалекты были насыщены заимствованиями друг у друга. И потом, у многих старшие еще успели учиться в польских школах. А у многих в Польше была родня, которая часто навещала своих. И мы все варились в том общем котле. А польское радио, молодежные программы, тогда транслировало много европейской и американской современной музыки. И сами польские музыканты не отставали от последних веяний. Я не знаю, скажут ли тебе и большинству читателей имена и названия ансамблей, которые слушались в буквальном смысле и денно и нощно: Червоне Гитары, Чеслав Немен, Трубадуры, Скальды, Но-то-цо, Бреакаут, Червоно-Чарни, Небеско-Чарни, Кася Собчик, Халина Францковяк, Ала Экштайн, Марыля Родович… Или как-то сегодня особо памятен Марек Грехута. И это были не только новые завораживающие мелодии и ритмы с электроинструментами… Прорывались новые, непривычные песенные поэтические тексты. Тот же Марек Грехута, к примеру. Кстати, именно сейчас слушаю его. С этими песнями завлекал к себе таинственный и так непохожий на свой, советский, мир поэтических образов. "По ту сторону радуги" - был такой замечательный хит у группы Бреакаут. А Чеслав Немен (кстати - земляк, гродненщина) - ввел в мир польской поэзии: Тувим, Аснык, Пшерва-Тетмаер, Норвид, Ивашкевич. И дальше пошла цепочка: Стаф, Броневский, Кубяк, Агнешка Осецка… Поди, перечисли всех. Они открывали новый колорит. Их хотелось знать и читать. И, знаешь, порой от незнания, неумения перевести правильно, слагались искаженные, но странные и интересные образы. Все это побуждало и побуждает писать. Насчет Шешолина - здесь ситуация несколько иная. Он, ну как это объяснить. Я поздно понял его настоящий масштаб. Мне случилось знакомым быть с ним совсем недолго. По-настоящему дружны они были с Артемом Тасаловым. Артем тоже занимался в нашем театре. Мы готовили спектакль, чтоб наш режиссер, защитил диплом в Щукинке. Взяли "Забыть Герострата" Герострат - я, Артем - Клеон. Криссипа не нашлось, и Артем привел к Нам Женю Шешолина. А потом, когда я получил выход в Интернет и познакомился со Скитом, подумал, что можно дать Шешолина на его страничке. Тексты брал у Артема, книжки еще не было. Книжка вышла усилиями другого друга Шешолина. Тот хранил почти все тексты Шешолина и вскоре после выхода этой книги умер. Понимаешь, я тебе ее послал совсем с другой мыслью. В переписке проскальзывала горечь сомнений в том, что труд, наша поэзия, конкретно - твоя, будет ли он ненапрасен и востребован. И я послал тебе эту книгу как подтверждение, что "рукописи не горят". ВА: Какой тип культурного обращения русских к Европе - сейчас тебе кажется более выражен, как твое чувствование развивалось в этом смысле, и что вошло в стихи - если не прямо, то в атмосферу их? ВЛ: Постоянно: то тяга к Европе, то разрыв с Европой… Знаешь, настоящего "союза"-то ведь и не было. Разрыв намечался еще до того, как мы стали русским государством, и произошел вскоре после того, как Русь приняла христианство - схизма. И та схизма, одна из величайших трагедий нашей цивилизации, которая уже около тысячи лет держит цивилизацию на грани гибели, исчезновения. Особенно в последнем столетии, когда сложилось ядерное противостояние Востока и Запада. И теперь, мы по-настоящему так и все не находим путей объединения; даже сейчас, когда всему миру стал угрожать экстремизм, маскирующийся под ислам и, между прочим, небезуспешно рвущийся к ядерному оружию. Заметь, объединение не дается даже на политическом уровне, не говоря уж о церкви: Римского Папу в Москву ведь так и не приглашают - не пускают. Страшно подумать, что так и останемся расколотыми на несколько миров, непримиримо расколотыми, неспособными к объединению. Третий Рим цветущий - то, что мы, Россия, унаследовали от Византии. И становление нашей национальной культуры имеет корни византийские, а то, что мы понимаем как Запад, европейскую культуру - культура выросшая из римского католицизма. И в итоге, мы всегда наблюдаем в нашей культуре (а только ли в нашей? - не у каждого ли народа?) главенствующим принципом приоритет национальных признаков, (в нашем случае - русских) тех, которые в меньшей степени соотносятся к Западу, особенно, когда влияние Европы в нашей культуре становится "чрезмерным". Со всякого рода "отрыжками" и перегибами процессов. Но ведь это естественно - стремиться знать больше о всем мире. А Европа для нас была всегда магнитом неимоверной силы ("Пустите! Ну пустите же Дуньку в Европу!" ) . Ну конечно же, наша современная литература, современная поэзия - она наследница того, что окончательно сформировалось в девятнадцатом веке именно под влиянием европейской литературы, но что, не утратив памяти о более древних, летописных памятниках, стало самобытным явлением мировой культуры, что достигло наивысших проявлений и достижений в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков. Но ведь и тогда же, в девятнадцатом, появилось это неприятие западного влияния и раскол на западников и славянофилов. Похоже, у этого раскола корни гораздо более глубокие. Его отголоски и в полемике Пушкина с Чаадаевым (помнишь, в переписке: историческая миссия русского народа в том, что он оградил западноевропейскую культуру от нового губительного нашествия Азии в лице монголо-татар), и, видимо, можно обнаружить в протоколах собраний Арзамаса или Зеленой лампы. И в яростных (справедливых же!) нападках Ломоносова на приверженцев норманской теории становления государства российского… Только были времена, когда эти полемики были в большей степени дружелюбными, даже дружескими, нежели это случилось в наши времена. Знаешь, одна из причин столь мощной волны эмиграции из страны последнего времени, мне кажется, кроется в ставшей в наше время непримиримою борьбы уже теперь между теми, кто упорно только себя и считает патриотами и теми, кого стали звать "безродными космополитами". Последние почли за лучшее оставить страну "настоящим", а по сути - кондовым в своей упертости на внешние символы, патриотам… Так мне кажется. Конечно под "упертыми", я имею ввиду не всех, кому дорого свое отечество, а повторяю - только тех, кто считает только себя истинным патриотом, кто не приемлет никаких замечаний о достоинствах зарубежного, кто и начал делить страну на чистокровных русских и "русскоязычных". Конец двадцатого столетия. Где-то с шестидесятых - борьба с космополитизмом. Не те масштабы, как репрессии 37-го или 49-го, но… Бродского осудили и сослали… Так и шорили, так и регламентировали, что можно знать, что можно читать, что можно слушать, что можно смотреть… А запреты, пусть и не очень жесткие - все равно провоцируют стремление к нарушению этих запретов. Подчас и с уловками, компромиссами. Что де плохого в том, что слушаем поляков: они же "наши", социалистические (пролетарский интернационализм)… Поляки тогда шутили, что мода, исходя из Парижа, всяко раньше достигнет Варшавы, нежели Москвы. Для меня Польша (радио, ТВ) это как легальное окно на Запад, которое не запретят и не закроют, и по большому счету - за которое не привлекут. Бог миловал - не привлекали (слишком молод был?), не вызывали, не беседовали, на путь истинный особо не наставляли. Разок-другой случались головомойки на комсомольском уровне (не в органах)- и то, слишком уж отбивался от рук, сам и нарывался упорно. В любом случае к диссидентам меня не причисляли… Да и что бы я из себя представлял - студент, нуль без палочки - не трибун, не лидер. И не выступал, чтобы уж очень чрезмерно…. Имея некоторые навыки языка, весьма и весьма слабенькие, все-таки было возможно пытаться уловить в том, что ловилось оттуда, из Польши, какие-то черточки малодоступного западного мира, и в частности всяких там, как казалось - "авангардей" в поэзии. И это было достаточно отлично от того, что предписывалось у нас в качестве образцов. Не строго предписывалось, а так - преподносилось в стихийных полемиках; последствий не предполагалось, но было ясно, что несоблюдение установок автоматом не пустит к публикациям и к нормальной учебе, в плане литературной учебы. И даже доказательно объяснено будет, что вовсе не из-за неравнодушия к зарубежному образцу, не за подражания ему - просто слабая работа, еще сырая - "ты же и сам это видишь". "Вот ведь есть другие, талантливее - и их печатают, хотя они тоже широко известны космополитическими воззрениями", и т.п. и т.д. А этому, западному, абстракционистическому хотелось подражать, может даже не потому, что больше соответствовало твоим потребностям самовыражения - нет! Только потому, что это не поощрялось. Вот, мол, таков мой свободный выбор, и все тут. Да еще соблазн легкого процесса: свободные формы, свободные размеры. Что там имеется своя строгая логика построения и развития образа - в такие тонкости вникать не хотелось, это еще не осознавалось. Вся легкость и доступность вкупе с предполагаемыми лаврами - о, как это подкупало в ненашем, свободном, западном образце. Вот от этого тяготения к большей свободе и легкой славе - то, что, казалось и до сих пор, может, кажется. И "выпендреж", и эти представления, что метрику можно взять от любой запавшей в душу фразы (одной или нескольких, и эти несколько могут иметь неодинаковую ритмику), ухватив алгоритм распределения ударений и выдерживая такой алгоритм во всем стихотворении (потому как стих от прозы отличается повторяемостью ритмического рисунка); что можно более свободно обращаться с рифмами, пользовать рифмы, отдаленно похожие на рифмы, и отказаться от регулярной рифмовки, принимая рифмы нерегулярные а то и вовсе эпизодические (белый стих, вообще без рифм - это уже давно не ново, стало быть, менее заманчиво, разве что только вкупе со свободным размером) И всего этого можно было, как казалось, нахвататься, научиться - только от Запада. Понимаешь, если чуточку серьезнее, - отчетливое понимание, что ни одна культура не существует и не развивается изолированно от других. Культуры взаимообогащают одна другую - вот поэтому и хочется знать, заимствовать и, (в самых нескромных мечтах) внести в свою культуру свежую струю, обнаруженную, прочувствованную в своих поисках "там". И, при этом, собственно, почему только с Запада? Мне бы весьма не помешало бы, кабы выпало, знать, скажем, суахили язык и литературу. А всеобщее, считай, - во всем мире, - увлечение японскими хокку? - Европа? И с другой стороны, так ли хорошо мы знаем Европу? В смысле, насколько стремимся знать. О поэзии. Да даже о рок-музыке. Я уже много распространялся о своем главном пристрастии - поляки. Весьма самобытный рок, и опередили нас лет на пятнадцать (первые рок- коллективы у них где-то в 58, в Варшаве была такая команда "ритм&блюз"). Много знают их у нас, по сравнению с англо-американским роком, и это несмотря на большее наше сродство с поляками (славяне же!), нежели с теми англосаксами? А много ли мы знаем о венграх? Ведь там были и "Омега" со знаменитейшей "Девушкой с жемчужными волосами", позднее (лет десять спустя) беспардонно чуть ли не один к одному "снятому" Скорпами; и "Метро", и "Илеш"… А "Локомотив ГТ" - это же вообще - из когорты легенд мирового рока ("Локомотив", кстати и был создан выходцами из "Омеги" и "Метро"). А уж про чехов, немцев или болгар, румын, по большому счету, и слыхом не слыхивали. Так вернемся к поэзии - много знаем современных скандинавов, скажем, французов, итальянцев, испанцев, которые наши современники, нашего поколения, с конца шестидесятых, после Жака Превера, скажем - много назовем имен? Или, может, их и нет вовсе, - только де одни мы? Спасибо, Аня Глазова работает с переводами из представителей современной немецкой поэзии. А про то, что за пределами Европы - вообще, слышно ли? Такое ощущение, что большинство из нас варится только в своем, русском наследии. Хорошо изучив его, конечно, можно еще очень долго расти из этого наследия. Да, действительно - богатейшее в мире на сегодня наследие, и классическое и авангардистское. Но рано или поздно, всякая замкнутая система истощается, становится однообразной. Это как если бы долго-долго жить в подводном куполе, замкнутом пространстве под водой, не имея контактов с наружным миром - воздух может кончиться, дышать станет нечем. Ну, там, можно конечно сделать срок проживания в такой атмосфере неимоверно продолжительным, использовать разные уловки с химией или водорослями. Но разве не останется тоски по глотку настоящего свежего воздуха с поверхности. Разве не останется сильнейшего стремления в большой мир? Так и здесь - нельзя всю жизнь вариться только в своем. Весь мир движется и развивается. И просто, чтобы не исчезнуть, необходимо тоже двигаться, изучая достижения других культур, и оставляя там свое наследие. Знаешь, где-то в тайниках души, теплится одна давняя-давняя мечта - каким-то образом стать доступным иноязычному читателю. Вот такой я графоман :) ... ВА: Спасибо, Владимир! С Днем Рожденья тебя, здоровья, новых замечательных стихов!
|