Сергей Гулевич
Игра в рейтинг
Посвящается людям, которые в слове
«комплексный» ставят ударение на втором слоге.
В этот день Сережа Хрусталев встал раньше обычного. Не спеша позавтракал. Проверил, все ли шпаргалки находятся на своих местах. Еще раз быстренько окинул взглядом таблицу неопределенных интегралов и с тяжким вздохом пустился в путь.
День предстоял тяжелый. Полугодовой экзамен по алгебре хотелось написать на четверку, однако последние результаты контрольных работ не давали повода для столь оптимистичного прогноза. Скорее всего, предстояла тяжелая изнурительная пятичасовая борьба за тройку. Впрочем, Сереже было не привыкать к такой борьбе – она была, можно сказать, каждодневной сутью его школьной жизни.
Сопровождаемый этими невеселыми мыслями, наш герой забрался в шестую маршрутку и, удобно расположившись на переднем сиденье, попытался привести в порядок свои довольно скромные познания в алгебре. Вчерашняя трехчасовая подготовка не привела к радикальному расширению этих познаний, она лишь привнесла в Сережину голову сумбур и сумятицу. Раньше Сережа знал мало, но это самое мало он определенно знал. Он со стопроцентной гарантией решал квадратные уравнения и находил производную от степенной функции, знал необходимое условие экстремума и мог даже написать уравнение касательной к графику данной функции, если, конечно, это была не слишком сложная функция. Теперь он знал больше, но зато умел меньше. И все потому, что новые знания хаотическими вкраплениями внедрились в его изнуренный небывало продолжительной подготовкой мозг, нарушив существовавшую там ранее строгую структуру. «Лучше знать мало, но хорошо, чем много, но плохо», – любил повторять Сережин учитель математики. «А еще лучше ничего не знать», - обычно добавлял он же после непродолжительной паузы, – «ибо от многия мудрости бывают многия беды». Сережины «многия беды» случались, однако, в большинстве случаев отнюдь не из-за «многия мудрости», поэтому слова учителя он воспринимал весьма поверхностно, не делая из них никаких далеко идущих выводов.
Меж тем маршрутка уже неслась по улице Горького, и надо было выходить. Родная школа встретила Сережу вестибюльной сутолокой и неумолчным гулом голосов, среди которых Сережино ухо легко выделило звонкий фальцет Юры Трухина. Тот, окруженный группой одноклассников, взахлеб рассказывал о совершенном им вчера очередном набеге на школьный компьютер, завершившемся на этот раз триумфальным успехом: вариант сегодняшнего экзамена был выявлен в файле под странным именем «День сурка». Далее Юра действовал стремительно. С обнаруженными задачами он отправился в гости к Викмару Чекану, где знакомый парень из Баумановки за полчаса раздраконил им весь вариант. Решения были аккуратно переписаны и отксерены в количестве 25 экземпляров. Потом, правда, Юра сообразил, что хватило бы и 24, поскольку Сережа Корольков уже месяц как перешел в гуманитарный класс.
Как-то слишком хорошо начинался этот день. От этого «слишком» недоброе предчувствие холодной змеей проскользнуло в Сережино сердце, когда, получив от Трухина свой экземпляр с решениями, он поднимался по боковой лестнице к 24 кабинету. А между тем кабинет уже был открыт, Сергей Анатольевич с отрешенным видом восседал за учительским столом, а одиннадцатиклассники неторопливо разбредались по своим местам.
И вот экзамен начался. Уже первое задание повергло Сережу в шок. Во-первых, оно даже отдаленно не напоминало ни одного задания из похищенного Трухиным файла. Во-вторых, и это было значительно хуже, оно вообще ничего не напоминало. Попросту говоря, во время вчерашней многочасовой подготовки Сережа не встречал ничего подобного. Впрочем, чтобы не быть голословным, приведу это задание целиком: «
Решите дифференциальное уравнение 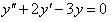 , если у(0)=0,
, если у(0)=0, 
». Читатель, не понаслышке знакомый со школьной программой, может с возмущением воскликнуть: «Позвольте, но я тоже не встречал в средней школе ничего подобного!» Специально для такого читателя, а именно таких читателей автор и ценит превыше всего, стоит заметить, что Сережа Хрусталев был учеником
математического класса общеобразовательной средней школы с
углубленным изучением математики. Несомненно, упоминавшийся выше Сережа Корольков, бывший учеником той же школы, но незадолго до описываемых событий предусмотрительно перешедший в гуманитарный класс, с подобной задачей на экзамене вряд ли мог столкнуться.
Полюбовавшись пару минут загадочной задачей, Сережа Хрусталев обреченно вздохнул и обратил свой взор к следующему заданию. И вот что предстало перед этим взыскующим взором:
Число  является корнем уравнения
является корнем уравнения 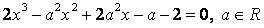 . Найдите значение параметра
. Найдите значение параметра  и решите уравнение при найденном значении
и решите уравнение при найденном значении 
. После недолгих раздумий наш герой сообразил, что в этом задании речь идет о так называемых комплексных числах. Что-то такое они недавно проходили. Пожалуй, он даже может вспомнить, где лежит шпаргалка, на которой вкратце изложены необходимые сведения об этих числах. Признав это обстоятельство обнадеживающим, Сережа следующие пять минут потратил на то, чтобы незаметно для учителя извлечь на свет божий необходимую шпаргалку. При этом не обошлось без потерь, поскольку вначале он по ошибке достал другой листочек, на котором были изложены основные правила дифференцирования, причем сделал это так неловко, что уронил шпаргалку на пол. Встретив настороженный взгляд Сергея Анатольевича, Сережа поспешно затолкал шпору ногой подальше под стол.
Дождавшись, пока внимание учителя переключится на другой конец класса, Сережа возобновил поиски, вскоре после чего нужная шпаргалка наконец-то была найдена. Еще некоторое время понадобилось нашему герою, чтобы убедиться в ее полной бесполезности. Действительно, представление комплексного числа в виде вектора вряд ли могло помочь в решении задачи, поскольку Сережа никак не мог сообразить, что бы такого интересного можно было сделать с этим вектором. После некоторых раздумий была отвергнута показавшаяся поначалу перспективной идея записать фигурировавшее в задаче число в тригонометрической форме. Промелькнула было мысль о сопряженных числах, но и она не имела никаких полезных последствий, как, впрочем, и бесполезных тоже.
Убедившись, что вторая задача на деле оказалась почти столь же безнадежной, как и первая, Сережа внимательно прочитал третье задание. В нем предлагалось найти максимум и минимум функции, заданной на отрезке. Сережа прекрасно знал, что для решения этой задачи необходимо приравнять нулю производную данной функции, а для вычисления производной необходимо воспользоваться шпаргалкой, от которой он только что так неосмотрительно поспешил избавиться. Теша себя надеждой, что шпаргалка находится не слишком далеко, Сережа уронил ручку и полез под стол. По странному стечению обстоятельств как раз в этот момент Влад Степанов по просьбе учителя открывал форточку, и возникший в результате этого сквозняк подхватил хрусталевский листочек и поволок его к открытой двери. Печальным взором проводив упорхнувшие вместе со шпаргалкой надежды на быстрое решение третьего задания, Сережа потянулся за ручкой. Оказалось, однако, что и тут он опоздал, поскольку его сосед, Андрей Ледвинов, постоянно озабоченный проблемой, как расположиться на своем стуле с максимальным комфортом, внезапно заелозил ногами и опустил тяжелый полувоенного образца башмак аккурат на эту самую ручку. Быть может, если бы Андрей, как и положено, пришел на экзамен в сменной обуви, от ручки что-нибудь и осталось, но это, как говорится, из другой жизни.
Дурные предчувствия сбывались. Практически утратив веру в благополучный исход экзамена, Сережа, тем не менее, продолжал бороться до последнего. Время, однако, стремительно таяло. Найти новую ручку, прочитать очередную задачу, разыскать подходящую шпаргалку, – на все это уходили минуты, которые незаметно складывались в часы. Через два с половиной часа после начала экзамена Сережа с ужасом обнаружил, что решил всего одну задачу, да и ту, скорее всего, неправильно. Пора было предпринимать радикальные меры для спасения ситуации, то есть обратиться за помощью к одноклассникам. Как раз и Сергей Анатольевич отправился в столовую выпить стаканчик чая, передав обязанности надсмотрщика своей ассистентке, учительнице обществознания Юлии Витальевне.
С удвоенной энергией Сережа бросился наверстывать упущенное. И вот уже во все концы класса помчались от него гонцы на предусмотрительно припасенных для такого случая осьмушках клетчатых тетрадных листов. И несли эти гонцы просьбу, нет, даже не просьбу, а мольбу о помощи. А время между тем поджимало, и некогда было сложа руки ждать ответа. Да и зачем же ждать, если сидит впереди круглая отличница Римма Бахаева, и почерк у нее такой замечательный, крупный и разборчивый. И при Сережином-то росте как было не заглянуть к Римме в тетрадку? Заглянул, конечно, заглянул, и не один раз заглянул, и к Олегу Некрасову заглянул, но у Олега почерк, как будто водит курица лапой, так что к нему лучше было и не заглядывать. В общем, не терял Сережа времени даром, а там и друзья откликнулись, не все, правда, но откликнулись, ведь мир не без добрых людей...
И в какой-то момент показалось Сереже Хрусталеву, что худшее осталось позади. Да и как было в это не поверить, если сделаны были к тому времени уже пять заданий из девяти. А ведь Сергей Анатольевич объявил во всеуслышание, что тройка будет ставиться за четыре правильно решенные задачки. Ну, а где четыре, там и три с половиной. Так что успокоился Сережа, а когда прозвенел звонок, возвестивший окончание экзамена, был он почти что весел. И невдомек ему было, что Женя Шигин, умница Шигин, победитель городской олимпиады, перепутает ось абсцисс с осью ординат. И Илья Волков, Женин сосед по парте, по странному стечению обстоятельств тоже перепутает эти оси. И еще несколько человек, словно сговорившись, сделают ту же ошибку. И листочек с неверным решением шестой задачи какими-то окольными путями доберется до Сережиной парты, и он, Сережа, пополнит грустный перечень лиц, наивно полагающих, что абсцисса точки обозначается буквой у, а ордината – буквой х. И разве мог он предполагать, что Римма тоже ошибется, причем как назло ошибется она именно в той задаче, которую с таким усердием переписал с ее тетради Сережа. Так что, увы, не обманули нашего героя дурные предчувствия, и в тот момент, когда он, расслабившись, полулежал перед компьютером после напряженного трудового дня, Сергей Анатольевич недрогнувшей рукой вывел в тетрадке Сергея Хрусталева двойку.
Закончив проверку тетрадей, учитель математики написал на листке формата А-4 результаты экзамена и вывесил этот листок в школьном вестибюле. Через пятнадцать минут к доске объявлений подошел Андрей Ледвинов. Еще через десять минут результаты экзамена были известны практически всем заинтересованным лицам.
* * *
С окончанием экзамена, тем более, зимнего, жизнь, как известно, не заканчивается. И это, в общем-то, неплохо. Гораздо хуже, что учеба при этом тоже не заканчивается – до каникул оставалась еще целая неделя. Так что на следующий после экзамена день Сережа Хрусталев, как всегда, в маршрутном такси намбер сикс прибыл в школу для дальнейшего прохождения учебы. Родная школа встретила Сережу вестибюльной сутолокой и неумолчным гулом голосов. Стоп. Что-то странное померещилось нашему герою в этом самом неумолчном гуле. Ах, да, это голос Юры Трухина, взахлеб рассказывающего очередную байку о своих хакерских подвигах. Это надо же. Мало ему вчерашнего облома. Другой бы на Юрином месте ходил сейчас тише воды, ниже травы, а с него все как с гуся вода. Сережа не успел поразмыслить на эту тему, поскольку вездесущий Трухин был уже тут как тут. Он пихнул Сереже в руку какой-то листок, сопровождая эти действия бойкой скороговоркой: «Вот сегодняшний вариант с решениями вчера скачал со школьного компьютера знакомый Викмара из Баумановки все решил мы отксерили на всех так что пользуйся на здоровье в общем с тебя причитается». И вскоре голос его радостно звенел в другом конце вестибюля. «Что за чертовщина, он что, издевается надо мной, что ли?» - оторопевший Сережа с минуту разглядывал так неожиданно попавший в его руки листок, затем сунул его в карман, махнул рукой и отправился в кабинет химии.
Пока он поднимался по лестнице, прозвенел звонок. Не желая оказаться в числе опоздавших, Сережа поспешно прошмыгнул в дверь, и тут его ждал второй сюрприз. В двадцать девятом кабинете он не обнаружил своего класса. Татьяна Михайловна была на месте, а вот одиннадцатого-второго класса на месте не было. Вместо него в кабинете по-хозяйски обосновалась какая-то мелочь пузатая – класс восьмой-девятый.
- Тебе чего, Хрусталев? – спросила у оторопевшего подростка учительница химии, - ваш класс пишет экзамен где-то на третьем этаже.
- Экзамен, но ведь мы же вчера..., - начал было Сережа, но внезапно осекся и как ошпаренный выскочил в коридор. А там его подхватил налетевший как вихрь Трухин и повлек по направлению к кабинету биологии:
- Скорей, скорей, сейчас Сергей Анатольевич заставит объяснительные записки писать, почему мы на экзамен опоздали.
Сережа покорно поплелся за ним, тяжело переступая ватными ногами. Холодная испарина покрыла его лоб. Юрик, на мгновение притормозив перед дверью 24 кабинета, обернулся к Сереже и увидел перекошенное ужасом лицо товарища.
- Хруст, что с тобой? - испуганно спросил он, - ты, часом, не заболел?
- Да нет, все нормально, - выдавил из себя Сережа и, собрав в кулак последние силы, вошел в кабинет. Ничего сверхъестественного он там, впрочем, не обнаружил. Все было так, как и должно быть. Сергей Анатольевич с отрешенным видом восседал за учительским столом, а одиннадцатиклассники неторопливо рассаживались на свои места. Занял свое место за третьим столом в среднем ряду и Сережа, автоматически отметив про себя, что его сосед, Андрей Ледвинов, опять пришел в школу без сменной обуви.
Конечно, к этому моменту наш герой уже прекрасно понимал, что с ним происходит. Понимать-то понимал, но втайне надеялся, что все это наваждение вдруг рассеется, как кошмарный сон. Да и, по правде сказать, реальность была настолько чудовищной, что сразу вслед за первой мыслью – о ночном кошмаре – возникала вторая – о помутившемся рассудке. Вот эта-то не слишком веселая мысль безраздельно владела Сережиным разумом на протяжении следующих десяти минут, пока его одноклассники знакомились с экзаменационными заданиями и возмущенно грозили кулаками сконфуженному Юре Трухину.
Постепенно, однако, Сережа пришел в себя и решил спокойно поразмыслить над возникшей ситуацией. Собственно говоря, ничего страшного в ней не было, кроме того, что ничего подобного просто не могло произойти на самом деле. Не могло, но вот ведь произошло, и даже если вся эта мутотень случилась не на самом деле, то для Сережи данное обстоятельство ничего не меняло. Он-то воспринимал сложившуюся ситуацию как стопроцентно реальную, и обязан был строить свое дальнейшее поведение исходя из этой реальности. Да и непонятно было, что бы это могло значить – «случилась не на самом деле»? Как известно из теории вероятностей, в результате любого эксперимента событие А либо происходит, либо не происходит. А произойти, скажем, наполовину или «не на самом деле» никакое событие не может, будь оно хоть трижды расчудесное.
Успокоив себя подобным образом, Сережа продолжал анализировать свое положение. В памяти его всплыло название файла, похищенного вчера (или позавчера?) Юрой Трухиным на школьном компьютере. «День Сурка» – так назывался этот файл. И хотя, вопреки клятвенным заверениям Юры, этот файл не имел никакого отношения к экзаменационной работе, но к судьбе Сережи Хрусталева он имел отношение прямое и непосредственное, поскольку «День Сурка» – это как раз и было расхожим наименованием той самой временной петли, в которую угодил наш герой. Точнее, это было название известного фильма, главный персонаж которого попадает в схожую с Сережиной ситуацию. Персонажу фильма удается, в конце концов, ценой неимоверных усилий выбраться из этой петли. Возможно, думал Сережа, и ему надо совершить нечто воистину замечательное, чтобы избавиться от этого наваждения. Например, сдать экзамен по алгебре на пять баллов.
Да, скорее всего, так оно и есть. Поскольку файл «День Сурка» был похищен со школьного компьютера, то все происходящее так или иначе завязано на школьных делах, и «День Сурка» в данном конкретном случае – это день школьного экзамена по алгебре. Непонятно только, почему именно он, Сережа Хрусталев, стал главным действующим лицом этого спектакля. Ах, кабы еще и режиссер был известен! Впрочем, на самом деле в этой истории было очень много непонятного, и было очень мало шансов во всем разобраться. Гораздо важнее было понять, как поскорее выбраться из временной петли. И хотя не было никакой уверенности, что хорошая оценка по алгебре восстановит нормальное течение времени, это было, пожалуй, единственное, чем наш герой надеялся хоть как-то повлиять на ситуацию.
Итак, хочешь - не хочешь, но надо было приниматься за задачки. К сожалению, вчера, то есть не вчера, а в прошлое сегодня, Сережа не удосужился узнать правильные решения экзаменационных заданий. Одно он знал точно – необходимо менять стратегию поведения на экзамене. Для начала стоило, пожалуй, еще раз поразмыслить над заданиями самому. Взять, например, четвертую задачу, решение которой Сережа в прошлый раз списал у Риммы. Вот эта задача. При каком значении параметра а функция y = –x3+ax2–3x+1 является монотонной? Простая задача, не правда ли? Римма тоже так считала и решила ее минут за пять. Сначала она нашла производную этой функции: y?=-3x2+2ax-3. Затем приравняла производную нулю и определила критические точки. В дальнейшем Римма рассуждала так: если функция имеет две критические точки, то она не будет монотонной, поскольку ее производная будет менять знак в этих точках. Значит, чтобы функция все-таки была монотонной, критические точки, они же корни квадратного трехчлена -3x2+2ax-3, должны совпадать, а потому дискриминант этого трехчлена должен равняться нулю. Железная логика. Сережа не видел в рассуждениях одноклассницы никакого изъяна. И даже если мы с вами, уважаемый читатель, этот изъян заметили, то давайте не будем забывать о том немаловажном обстоятельстве, что авторитет Риммы Бахаевой в классе был чрезвычайно велик, и наш герой даже в мыслях не допускал ничего подобного. Таким образом, с Сережиной точки зрения получалось, что в прошлый раз четвертая задача была сделана (и списана) правильно, а потому юноша снова с чистой совестью записал это решение в тетрадь.
Насчет остальных заданий дело обстояло куда сложнее. Взять, например, шестую задачу, в которой предлагалось вычислить площадь фигуры, ограниченной графиком некой функции, касательной к этому графику и осью абсцисс. В прошлый раз Сережа списал решение этой задачи с какого-то неведомо как попавшего к нему листочка весьма сомнительного вида. По всей видимости, прежде чем оказаться у Сережи, этот листочек побывал во многих руках. Это было видно хотя бы из того, что наряду с основным решением, выполненным темно-синей пастой мелким аккуратным почерком с некоторой претензией на изящество, на листке имелась приписка то ли поясняющего, то ли дополняющего характера. И не нужно было проводить графологическую экспертизу, чтобы понять - приписка эта сделана совершенно другим почерком, крупным и неопрятным, да и шариковая ручка использовалась другая. И вообще, странная это была приписка. Что-то типа того, что «значения в точках производной мы не будем вычислять, так как они лежат за пределами отрезка». Сережа, помнится, долго и безрезультатно пытался понять тайный смысл этой загадочной фразы. Затем еще некоторое время он ломал голову над проблемой, переписывать ему это то ли дополнение, то ли пояснение или нет. В конце концов, решил на всякий случай переписать, хотя оставались определенные сомнения, не относятся ли эти добавочные строки к совершенно другой задаче. Косвенным образом эти сомнения подтверждались наличием на пресловутом листочке каких-то выполненных карандашом арифметических вычислений, явно не связанных с шестой задачей, да и вообще непонятно с чем связанных. Как выяснилось впоследствии, во время шестого или седьмого посещения Сережей школьного экзамена, мучавшие нашего героя сомнения имели-таки под собой глубокие основания. Загадочная фраза относилась вовсе не к шестой задаче, а к третьей, а автором ее был небезызвестный стилист Дима Северьянов, тот самый Дима, при проверке работ которого учительница русского языка считала необходимым заранее приготовить пузырек с валерьянкой.
Или вот девятое задание. Сережа сделал его с помощью своего соседа, Андрея Ледвинова. Андрей числился в твердых четверочниках, на экзамене его шансы котировались весьма высоко, соответственно и девятая задачка не вызывала больших опасений. Но все это до объявления результатов. Потому как вечером стало известно, что с утра ходивший в фаворитах Ледвинов по итогам экзамена еле-еле вытянул на тройку, а, значит, где-то наломал дров. Уж не в той ли самой девятой задаче?
Были еще две задачи, которые Сережа сделал сам. Точнее, одну из них он сделал совсем сам, а насчет другой ему подкинул идейку Олег Некрасов. Да-да, том самый, с плохим почерком, причем именно тогда подкинул, когда Сережа в его плохом почерке пытался разобраться, развернув с этой целью корпус на 80?, одновременно с этим вывернув шею на 60? и еще на 40? скосив глаза (для далекого от математики читателя напомню, что 80?+60?+40? = 180? – развернутый угол). Так вот, с этими задачами тоже не было никакой ясности, Сережа еще в прошлый раз весьма трезво оценивал их шансы как пятьдесят на пятьдесят.
А как же насчет остальных четырех заданий, спросите вы, ведь всего-то их было девять? Надо сказать, что этим вопросом вы меня очень порадуете, поскольку, задав его, продемонстрируете не только свой интерес к этим скромным запискам, но и глубокое проникновение в сюжетную ткань. Да, верно, всего заданий было девять. Но четыре из них Сережа ни решить не смог, ни списать. В общем, с этими четырьмя все было глухо, как в танке. А если учесть, что сегодня наш герой по вполне понятным причинам вообще явился в школу без шпаргалок, то сразу станет ясно, почему ваш покорный слуга попытался обойти эти четыре задания молчанием. Да потому, конечно, что ничего существенного не смог бы о них сообщить при всем своем к вам, дорогой читатель, уважении.
Короче, очень скоро Сережа убедился, что при нынешнем положении вещей его шансы на успех весьма эфемерны. Так что преодолеть планку со второй попытки вряд ли удастся. Но к тому времени он уже почти не сомневался, что за второй попыткой последует третья, за третьей четвертая и так далее. Речь шла лишь о том, как эффективней организовать свою работу, чтобы добиться успеха при минимальном числе этих самых попыток. Чтобы не терять времени даром, Сережа решил более досконально ознакомиться с работой своего соседа. Андрей к тому времени успел решить вторую задачу (первую он пропустил) и перешел к третьей. Именно на второй задаче сосредоточил свой пристальный взор наш герой. Первое, что бросилось ему в глаза сейчас и что ускользнуло от его внимания в прошлый раз, было сходство заданий для первого и второго вариантов. Фактически эти задания отличались лишь двумя знаками в уравнении. Обрадованный этим обстоятельством, Сережа, не мудрствуя лукаво, переписал решение второй задачи у Андрея, вставляя по ходу дела необходимые изменения.
Когда со вторым заданием было покончено, Сережа перешел к третьему. Он умел находить максимум и минимум функции на отрезке, но нуждался для этого в шпаргалке. Своих, как вы помните, Сережа не взял. Впрочем, добра этого у каждого ученика имелось навалом, проблема заключалась в том, что задачки-то все ученики решали одинаковые, так что и шпоры им требовались одни и те же. Оставалось ждать. В конце концов, необходимую шпаргалку удалось стрельнуть у Викмара. Повозившись некоторое время с задачей, Сережа получил ответ, который не сошелся, однако, ни с ответом Риммы Бахаевой, ни с ответом Олега Некрасова, каковые ответы друг с другом также не сходились. Пришлось вносить в решение определенные коррективы, подгоняя его под результат Риммы.
Вот так, незаметно для самого себя, Сережа помаленьку втянулся в рутинный экзаменационный экстрим. Когда прозвенел звонок, возвестивший окончание экзамена, молодой человек почти не вспоминал о том, что пишет одну и ту же работу уже во второй раз, да и вторым разом дело вряд ли ограничится.
* * *
У каждого человека бывают такие дни (часы, минуты), к которым хочется возвращаться снова и снова. Думаю, никто не отказался бы прожить свой звездный день еще раз, или даже не один раз (эх, раз, еще раз, еще много-много раз). Увы, это невозможно. Лишь память способна окунуть нас в безвозвратно утраченное прошлое, и мы раз за разом вдыхаем пьянящий дурман воспоминаний, подернутый легкой дымкой забвения и грусти.
У Сережи Хрусталева появилась уникальная возможность прожить один и тот же день своей жизни много-много раз. К сожалению, день школьного экзамена по алгебре отнюдь не относится к числу таких дней, которые хочется переживать заново. Большинство нормальных школьников стараются изгнать этот день из своей памяти как кошмарный сон. Но наш герой, хочешь, не хочешь, был обречен снова и снова возвращаться в 21 декабря, слушать звонкий фальцет Юры Трухина в грязном школьном вестибюле, и затем, в кабинете биологии, мучительно ломать голову над неизменными девятью экзаменационными заданиями. Но ведь потом, когда экзамен заканчивался, до вечера оставалась еще уйма времени! Воистину, если уж жизнь (или хотя бы один день этой самой жизни) дается человеку много раз, то прожить ее (или его, как вам угодно) надо так, чтобы не было мучительно противно от собственной тупости и бессилия, чтобы очередное возвращение в пресловутое 21 декабря не вызывало отвращения и отчаяния на грани суицида.
Вот такие, или примерно такие, мысли посетили нашего героя через три часа после школьного экзамена, когда он, обложившись со всех сторон книжками и тетрадками, пытался предпринять мозговой штурм экзаменационного варианта. Первоначальный план, заключавшийся в том, чтобы узнать решения задач у только что написавших экзамен одноклассников, бесславно провалился. Все, к кому Сережа обращался по этому поводу, уклонились от обсуждения данной темы под более или менее благовидными предлогами. Впрочем, Сережа не мог осуждать друзей – после изнурительного четырехчасового экзамена они нуждались в немедленной релаксации, тем более что для них-то экзамен закончился по-настоящему. Смирившись с необходимостью самому решать девять экзаменационных задач, Сережа не стал откладывать это дело в долгий ящик и уселся за работу сразу по возвращении домой.
Однако вскоре ему стало невмоготу разбираться во всех этих определениях, формулах, преобразованиях и особенно в разного рода «приемчиках», которыми учитель математики постоянно и с большой охотой пользовался при решении задач. Сережа понял, что долго в таком режиме он не протянет, а отсюда был всего один шаг до незатейливой мысли – если уж судьба определила временем его обитания 21 декабря 2004 года, то главная задача состоит не в том, как поскорей отсюда выбраться, а в том, как обустроиться в этом самом 21 декабря с максимальным комфортом. Короче, чтобы не было мучительно противно от собственной тупости и бессилия. Удивительно, что эта простая и понятная мысль так долго не приходила Сереже в голову. Но воистину говорят, лучше поздно, чем никогда. Окрыленный открывающимися перед ним радужными перспективами – еще бы, уроки учить не надо, а, значит, можно делать что хочешь, - наш герой мгновенно зашвырнул подальше тетради и учебники и сел поиграть на компьютере. Совсем чуть-чуть поиграть, пока в голову не придет какая-нибудь выдающаяся идея, как провести сегодняшний абсолютно свободный вечер. Но так уж всегда бывает: садишься за компьютер на часок, а встаешь уже ближе к полуночи, а то и за полночь, с чугунной головой, негнущейся спиной и ватными ногами.
***
Постепенно жизнь Сережи Хрусталева вошла в размеренное русло. Утром он вставал, завтракал, ехал в школу, писал экзаменационную работу, после чего начиналось самое интересное – свободное время. Чаще всего Сережа сразу после школы садился поиграть на компьютере. В такие дни ему редко удавалось встать из-за стола раньше двенадцати ночи. В глубине души юноша осознавал никчемность подобного времяпрепровождения, но оно обладало одним бесспорным достоинством, поскольку создавало иллюзию обыденности. Действительно, до 21 декабря Сережа каждый божий несколько часов проводил за игрой, и сейчас он с таким же успехом занимается тем же самым. То есть вроде как ничего из ряда вон выходящего с ним и не произошло. Есть ли смысл переживать из-за какой-то дурацкой петли, если она по большому счету ничего в твоей жизни не изменила? Ну, Сережа особенно и не переживал.
Впрочем, к чести нашего героя следует заметить, что порой ему удавалось нарушить установившийся порядок вещей. Случалось и так, что Сережа проводил свободное время с друзьями, а пару раз он даже назначал свидания одной знакомой девушке. Полагаю, что Вы уже предвкушаете, дорогой читатель, резкий поворот в сюжете, вызванный стремительным развитием любовной линии. Да и как же иначе, ведь совсем молод еще наш герой, и томление юного сердца ему присуще в полной мере. Однако поспешу Вас разочаровать. Никаких далеко идущих последствий Сережины свидания не имели, поскольку молодой человек привык строить отношения с девушками на долговременной основе, и за один вечер не смог добиться на любовном фронте сколько-нибудь впечатляющих результатов, если не считать пары поцелуев в полупустом зале одного из тверских кинотеатров. Во время следующей встречи наш герой, окрыленный воспоминаниями об этих поцелуях, попытался форсировать события, но получил неожиданный отпор. Это повергло молодого человека в длительное уныние, и он решил отказаться от подобных развлечений, надолго вернувшись к компьютерным монстрам, существам гораздо более предсказуемым, чем большинство представительниц прекрасного пола. Тем более что, обладая влюбчивой натурой, всерьез опасался на ком-нибудь «зациклиться» без всяких шансов на взаимность.
На экзамен Сережа стал приезжать заранее. Он наловчился появляться в школе раньше Юры Трухина, заговорщицки отзывал в сторону Женю Шигина и показывал ему одну из экзаменационных задачек. Дескать, из достоверных источников стало известно, что такая задача встретится сегодня на экзамене. Шигин скептически пожимал плечами, тем не менее, брал листок бумаги и начинал объяснять решение: тут, мол, заменим, там применим, здесь приравняем и сократим. Ну а дальше совсем просто. В этот момент появлялся Трухин, наподобие неопознанного летающего объекта начинал кружить по вестибюлю, вовлекая в свою орбиту все новых и новых одноклассников. И вот уже у Сережи в руках появляется листок с решениями задач из рокового файла «День Сурка», истинная роль которого во всей этой истории по-прежнему оставалась за семью печатями.
Но вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что наш герой не предпринял никаких попыток уяснить для себя эту роль. Несколько раз он пытался расспрашивать Трухина о подробностях проникновения на школьный компьютер, но ничего интересного выяснить не смог. Юра все время куда-то спешил, на Сережины вопросы отвечал сбивчиво и путано, но это отнюдь не свидетельствовало о запутанности ситуации, а скорее говорило о сбивчивости Юриных мыслей. А с другой стороны, что нового мог он сообщить? Файл как файл, папка как папка, компьютер как компьютер. Нет, компьютер конечно, хреновый, и система на нем установлена хреновая, и вирусов полно. Но это и так было ясно, да и к делу отношения не имело.
Ничего толком не добившись от Трухина, Сережа решил действовать сам. Преодолев природную застенчивость он зашел на школьный компьютер, задурив предварительно голову Светлане Аркадьевне, директорской секретарше, под присмотром которой вышеупомянутый компьютер находился. Задурить голову, впрочем, оказалось нетрудно, достаточно было с многозначительным видом упомянуть школьного ОБЖешника Василия Сергеевича, якобы попросившего Сережу распечатать некие секретные инструкции МЧС о порядке эвакуации школы при угрозе возникновения цунами. Ничего нового, однако, юноша обнаружить не смог. Действительно, файл как файл, папка как папка, компьютер как компьютер. Работает только медленно, и Сережа весь изнервничался, пока до нужного файла добрался. Файл был почему-то запрятан в папку «Литература», видимо Сергей Анатольевич любовь старшеклассников к этому предмету считал достаточно надежной гарантией от подобных Юре Трухину непрошеных гостей. Впрочем, вполне возможно, что «День сурка» попал в эту папку по ошибке.
Вернемся, однако, к экзамену, ведь именно ради него наш герой ежедневно вставал ни свет, ни заря, несся через весь город в переполненной маршрутке, раз за разом ломал голову над неподдающимися его усилиям задачами. Каждое утро он покорно поднимался в 24 кабинет, обреченно садился за третий стол среднего ряда около Андрея Ледвинова с его гигантскими башмаками и с Сизифовым упорством принимался за работу. Во время экзамена Сережа перво-наперво по свежим следам разбирался с шигинским решением, на что обычно уходило около часа, затем записывал решения других задач. Разных вариантов решений у него накопилось довольно много, но большинство из них выглядели не слишком достоверными. Сережа частенько менял эти варианты в надежде отыскать оптимальное их сочетание. И вот уже решение «от Архарова» сменялось решением «от Клименкова», а решению «от Бахаевой» отдавалось предпочтение перед решением «от Курнакова». Сережа подсчитал: если иметь по три гипотетических разновидности решений каждой задачи, то, различным образом сочетая их между собой, можно составить 39=19683, то есть почти 20 тысяч вариантов решения экзаменационной работы в целом. Чтобы опробовать эти 20 тысяч вариантов, нужно затратить почти 54 года. А где гарантия, что на каждую задачу имелся хотя бы одна правильная разновидность решения? Короче, дело предстояло трудное и канительное, но Сережа не унывал, тем более что и определенные успехи уже имелись. На четырнадцатой попытке он впервые получил за свою работу тройку. Затем тройки стали появляться все чаще и чаще, и, начиная с 47 попытки, двойки исчезли вообще. А когда на 93 попытке Сережа получил четверку, ему вдруг померещилось, что эта попытка будет последней, и после нее наконец-то наступит 22 декабря.
Однако надеждам его не суждено было сбыться. Наутро все продолжалось обычным порядком. Впору было впасть в отчаяние, и герой наш действительно предпринял отчаянный шаг – он не пошел на экзамен. Заметьте, впервые за эти 94 дня. Как выяснилось, пропустить экзамен оказалось не так-то легко. Едва лишь Сережа попытался подольше понежиться в постели, как мама, проявив прекрасную осведомленность о его школьных делах, появилась в комнате со словами: «Сынок, экзамен проспишь!» Пришлось отправляться в школу. То есть как раз в школу-то он не поехал, поскольку твердо решил на этот раз испытать судьбу подобным образом. Только вот судьбе, похоже, на Сережину твердую решимость было ровным счетом наплевать. Потому что она, судьба то есть, не обращала на него никакого внимания. За те 4 часа, в течение которых наш герой по замыслу Творца должен был пребывать на экзамене, с Сережей абсолютно ничего не произошло. Как будто эти часы напрочь выпали из его жизни, и уже через пару дней о них ничего невозможно было вспомнить. А что такое пара дней перед лицом вечности, с которой наш герой, похоже, оказался повязан накрепко?
Однако Сережину попытку поспорить с судьбой нельзя было считать совсем уж бесполезной. Во-первых, как говорят физики, в любом эксперименте отрицательный результат – всего лишь один из возможных результатов. Во-вторых, Сережа впервые задумался о причастности Создателя к творимому с ним безобразию. И пришел к такому интересному выводу: Если Бог является творцом материального мира, о чем прямо и непосредственно говорится в Библии, то его роль в создании времени в этой книге никак не отражена, так что не лишена основания гипотеза, что творцом времени является Дьявол. Помните Фауста: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Но в этом случае и «День сурка» - его грязных рук дело! После этих мыслей наш герой сильно себя зауважал, поскольку почувствовал, что является одной из центральных фигур в извечном противостоянии добра и зла.
На следующий день Сережа решил напиться. В отличие от многих своих сверстников, он равнодушно относился к подобному способу поднятия настроения, не считал он его и достойной формой презентации взрослости. Однако по праздникам, в кругу друзей (и подруг), не отказывался выпить пару бокалов вина. В его нынешнем положении, однако, вряд ли можно было рассчитывать на скорое наступление праздника. Или, если взглянуть на это дело с другой стороны, Сережина жизнь превратилась в вечный праздник. Не зная, какой точки зрения следует придерживаться в этом вопросе, наш герой поднялся, тем не менее, до философских выводов о том, что каждый человек сам является творцом своего Праздника. За это, вне всяких сомнений, стоило выпить. Оставалось подобрать подходящую компанию.
Однако получилось так, что одноклассники вяло отреагировали на последовавшее по окончании экзамена предложение «обмыть это дело». Неожиданную поддержку Сережа получил только со стороны Антона Клименкова. Неожиданную потому, что Антон не относился к любителям подобных развлечений. Однако за пару дней до экзамена он поссорился с Риммой, к которой, как всем было известно, питал весьма нежные чувства. Из-за этой размолвки он ходил в расстроенных чувствах, поэтому Сережино предложение «надраться» воспринял как знак судьбы. В последний момент к друзьям решил присоединиться Дима Корнилов, что было весьма кстати по двум причинам. Во-первых, «на троих» всегда лучше, чем вдвоем. А во-вторых, Дима жил неподалеку, квартира до пяти вечера была в его полном распоряжении, так что друзьям не пришлось ошиваться в грязных подъездах и мерзнуть в заснеженных скверах.
Купив бутылку крепленого вина и три пачки соленых сухариков, мальчики отправились к Диме домой. Расположившись в Диминой комнате отдыха (она же спальня, она же рабочий кабинет) приятели незамедлительно приступили к делу. Что такое стакан вина для молодого здорового организма? Почти что ничего. Однако следует учесть, что наши собутыльники не относились к числу людей, в винопитии зело искушенных, да и проголодались они изрядно, к тому же и нервозность экзаменационная дала о себе знать. А потому не стоит удивляться, что очень быстро у них зашумело в головах, и возникла удивительная легкость в мыслях, словах и движениях.
После чего было принято естественное решение продолжить приятную во всех отношениях беседу, непринужденности которой должна была способствовать еще одна бутылка вина, купленная в ларьке неподалеку. О чем же вели разговор юные эпикурейцы, удобно расположившись на Димином диване с наполненными рубиновой жидкостью бокалами в руках? Да почти что обо всем. Антон, например, жаловался, что у него никак не складываются отношения с девушками: «Не могу я их понять, и все тут!» Дима Корнилов с видом заправского донжуана давал ему ценные указания, как следует себя держать в той или иной ситуации. «Ты, главное, веди себя как можно более естественно», - менторским тоном изрекал он, выуживая из пакетика очередной сухарик. А через некоторое время роли менялись, и теперь уже Дима жаловался, что у него не складываются отношения с интегралами, а Антон выступал в роли советчика. А вот Сережа по большей части помалкивал, так как рассказать о наболевшем не решался – друзья, они, конечно, друзья, но ведь не поверят, подумают, что прикалывается. А так хотелось с кем-нибудь поделиться!
Время пролетело быстро. И вот уже Дима засуетился, бросился заметать следы, готовясь к возвращению матери. Сережа с Антоном поспешно с ним распрощались и покинули гостеприимное жилище, прихватив с собой пустые бутылки, дабы выкинуть их в ближайший мусорный контейнер. На улице стояла, как, впрочем, и всегда в последние 95 дней, прекрасная зимняя погода. Легкий морозец бодрил, и настроение было чудесное. Антон, оказавшийся из всей троицы наиболее подверженным воздействию алкоголя, от свежего воздуха захмелел еще больше. Сначала он попытался завязать беседу с проходившими мимо девицами, но те только захихикали в ответ и растворились в морозном декабрьском сумраке. После этого Антон разоткровенничался и рассказал Сереже о причинах своей размолвки с Риммой. Оказывается, во время своих странствий по Интернету он завязал знакомство с некой особой, скрывавшей свою сущность под ником «три целых четырнадцать сотых», или, короче, 3,14. Это число, как известно, является десятичным приближением с точностью до одной сотой знаменитого числа «пи», равного отношению длины окружности к ее диаметру. Само же число «пи» иррационально, то есть записывается в виде бесконечной непериодической дроби и не может быть представлено в виде дроби обыкновенной. Так вот, общение с этой самой 3,14 произвело, по всей видимости, глубокое впечатление на Антона, каковым впечатлением он неоднократно делился с Риммой. Девушке почему-то эта откровенность не пришлась по вкусу, и в один прекрасный момент она категорически запретила Антону обсуждать с ней его виртуальные похождения. А на следующий день Антон решил похвастаться перед подругой своим рефератом по алгебре, тему для которого, кстати, он выбрал еще в сентябре. Реферат, как назло, назывался «Иррациональность числа «пи». Увидев это название, крупным шрифтом напечатанное на титульном листе реферата, Римма психанула, наговорила Антону всяких гадостей и заявила, что между ними все кончено.
Чем мог ответить Сережа на эту откровенность? А ничем. Он лишь выразил другу свое сочувствие и проводил до дома, чтобы по дороге пьяненький Антон не вляпался в какую-нибудь неприятность.
* * *
Первое время Сережа много играл на компьютере, но постепенно его интерес к игрушкам начал пропадать. Тому было несколько причин. Во-первых, большинство старых игр ему просто надоели, а появления новых ожидать не приходилось. Во-вторых, игры «длительного пользования», проходить которые надо было несколько дней, а то и недель, вообще теряли всякий смысл: сколько их Сережа не записывал, вновь наступало 21 декабря, и игру приходилось начинать сызнова. Ну, а в-третьих, сам Сережа постепенно изменялся. Нет, физиологически он оставался все тем же семнадцатилетним подростком, каким впервые вступил во временную петлю. Но ото дня ко дню менялось мировосприятие нашего героя, шкала его материальных и духовных ценностей, происходило духовное возмужание. Он стал больше читать книг, значительно яснее излагал свои мысли, научился вполне прилично играть в шахматы, легче находил общий язык как со сверстниками, так и с людьми зрелого возраста. И математику ему, в конце концов, удалось подтянуть. Теперь уже перед экзаменом Сереже не надо было оттаскивать в сторону Женю Шигина, чтобы выпытать у него решение очередной задачи. И хотя полной ясности с пресловутыми девятью заданиями по-прежнему не было, но все-таки в большинстве случаев нашему герою удавалось сдать экзамен на пять. В его положении, однако, это ничего не меняло. «День Сурка» продолжался.
Ежедневно Сережа с болью в сердце наблюдал за страдающим от размолвки с Риммой Антоном Клименковым. Кто знает, быть может, 22 числа они уже помирятся, но Сережа-то продолжал жить в 21 декабря, а в этот день его друг был обречен на вечные страдания. И хотя умом наш герой прекрасно понимал, что находящийся вне временной петли Антон не воспринимает свою драму как актуальную бесконечность, все равно при виде друга на сердце у Сережи скребли кошки. В один прекрасный день ему невмоготу стало созерцать осунувшуюся физиономию Клименкова, и Сережа решил предпринять попытку помирить его с Риммой. С этой целью после окончания экзамена он подошел к девушке и заявил, что ему необходимо с ней поговорить.
- Пойдем, посидим где-нибудь, - предложил Сережа, когда они вместе с Риммой вышли из школы.
- Ну, можно было в школьном буфете посидеть, чаю попить с пирожками, - улыбнулась девушка.
- В буфете обстановка не располагающая.
- Располагающая к чему?
- К откровенности.
- А, так значит, у нас предполагается откровенный разговор?
- Хотелось бы думать, что да.
- Слушай, Сережа, хочу сразу предупредить: если тебя Клименков подослал, то никакого откровенного разговора у нас не получится.
- Остынь, Римма, никакой Клименков меня не подослал, хотя ты угадала, поговорить я хочу именно о нем.
Молодые люди зашли в небольшое кафе на улице Горького. Если честно, обстановка там тоже была не слишком располагающей для душевных излияний, но беседа уже началась, а потому Сережа с Риммой прошли вглубь кафе и сели за столик в углу, не обращая внимания на двух подвыпивших парней, расположившихся ближе к двери.
Сережа заказал кофе с пирожными, и некоторое время сидел молча. Римма достойно выдержала эту паузу, с легкой иронической улыбкой поглядывая на одноклассника.
- Ну что ж, - начал наш герой, - действительно, меня волнует состояние Антона. Он очень сильно переживает размолвку с тобой. Но я бы никогда не стал вмешиваться в ваши дела, если бы он не рассказал мне о причинах вашей ссоры.
- Интересно, когда это он успел всем об этом раструбить?
- Ну, не всем, конечно. Он мне одному рассказал. Неделю назад, - сказал Сережа и осекся, сообразив, что сболтнул лишнее. Впрочем, Римма восприняла его слова как явный абсурд.
- Что за ерунду ты говоришь. Какая неделя, мы только позавчера поссорились.
- Извини, я оговорился, я вспомнил сейчас о другом разговоре. Неделю назад мы с Антоном обсуждали одну вещь... В общем, он жаловался мне, что не умеет себя правильно вести с девушками. И эти два разговора у меня в голове как-то перепутались.
- Действительно, Антон не умеет себя вести с девушками, - внезапно согласилась Римма, - собственно, из-за этого мы и поссорились. Эта самая 3,14 тут вовсе не причем. Знаешь, Сережа, я не буду вдаваться в подробности, но поверь, что ничего тут уже не исправить. Я устала от этих странных отношений с Антоном. Я нормальная девчонка, я хочу любить и быть любимой. А с Антоном все получается шиворот-навыворот. Если хочешь знать, я воспользовалась этой Интернет-девицей, как предлогом, чтобы эти отношения прекратить.
Откровенность Риммы несколько обескуражила нашего героя. Он даже пожалел, что затеял этот разговор. Конечно, слова девушки нельзя было воспринимать буквально, поскольку в них слишком явственно чувствовались горечь и раздражение. Тем не менее, было ясно, что помочь Антону Клименкову в данной ситуации мог только один человек – сам Антон.
Сережины размышления были прерваны неожиданным и неприятным образом. Один из находившихся в кафе подвыпивших парней (помните, двое сидели около входа) поднялся со своего места и нетвердой походкой направился в их сторону. Не обращая на Сережу никакого внимания, он склонился к Римме:
- Слушай, девочка, собирайся, поедешь с нами. Мы сегодня при бабках, так что не пожалеешь.
Римма медленно подняла на парня немигающий взгляд и, глядя ему прямо в глаза, отчетливо произнесла:
- Отвали.
- Чё ты сказала? – опешил тот.
- Девушка сказала: отвали, - вмешался в разговор Сережа, медленно привставая со стула. В этот момент он не испытывал никакого страха. Холодная решимость сковала сердце подростка ледяным панцирем. Полуобернувшись к спутнице, он тихо скомандовал:
- Смывайся.
Римма послушно скользнула к двери, но наперерез ей уже поднимался второй парень. Между тем первый пришел в себя после неожиданно полученного отпора и обрушил на Сережу тяжелый кулак вместе с трудновоспроизводимой смесью сленга и ненормативной лексики. К счастью, парень был сильно пьян, и Сереже почти удалось увернуться от удара, кулак лишь скользнул по его щеке, оставляя на ней глубокую царапину от массивного перстня.
Уходя от удара, Сережа успел прихватить со стола стеклянную, под хрусталь, вазочку с салфетками, и с ее помощью в считанные секунды нейтрализовал противника, стукнув его изо всех сил по голове. Не дожидаясь, когда тот очухается от удара, наш герой бросился ко второму парню, который в этот момент уже почти перекрыл Римме выход из кафе. На приличной скорости подросток врезался врагу головой в живот, сбив его при этом с ног, схватил девушку за руку и выволок ее из кафе.
Видимо, судьба в этот день оказалась благосклонна к нашим героям, поскольку оба бандита понесли серьезный урон и не смогли быстро организовать преследование. Когда же они выскочили на улицу, Сережа с Риммой уже ехали на маршрутном такси довольно далеко от места происшествия. Оба были напуганы и возбуждены происшедшим. «Да, такого со мной еще не было за все это время», - думал про себя Сережа, - «кстати, сколько времени я уже торчу в этом разнесчастном Дне Сурка?» Мальчик понял, что скоро исполнится год, как он застрял в 21 декабря. Внезапно его посетила безумная надежда, что вся эта история прекратится, как только пройдет ровно год с ее начала. Впрочем, эта надежда быстро растаяла, ибо, подумал юноша, что такое земной год перед лицом Вечности? Всего лишь отношение периода обращения Земли вокруг Солнца к периоду ее оборота вокруг собственной оси... Нечистой силе, а именно ее Сережа считал ответственной за возникновение поглотившего его хроноворота, глубоко наплевать на это отношение, тем более, если она так свободно распоряжается Временем.
Внезапно Сережины размышления были прерваны возгласом Риммы:
- Ой, да ты весь в крови!
Действительно, царапина на щеке юноши оказалась довольно глубокой, из нее продолжала сочиться кровь, которая затем стекала по щеке и капала на куртку. Римма протянула Сереже носовой платок, и он прижал его к щеке.
- Сейчас буду тебя лечить, - сказала девушка и внимательно посмотрела в окно маршрутки, которая уносила одноклассников в сторону микрорайона «Юность», где им делать, в общем-то, было нечего. Заметив в окно аптеку, Римма попросила шофера остановиться, и вышла с Сережей из такси. Она купила в аптеке стерильные салфетки, перекись водорода, йод, после чего молодые люди зашли в небольшой дворик и устроились в детской беседке, чтобы девушке удобнее было обработать Сережину царапину.
- Ты заправская санитарка, - заметил юноша, почувствовав легкое волнение от нежного прикосновения прохладных пальцев.
- Раненый, молчите, - Римма перекисью промыла рану, остановила кровотечение и открыла баночку с йодом, - терпите, сейчас будет щипать.
- Кто будет щипать? Ты что ли? – Неуклюже пошутил Сережа.
- Могу и я, конечно, если очень попросишь, - Римма обработала рану йодом и внимательно ее осмотрела, - ну вот, кажется, все в порядке.
Ладонь девушки почему-то дольше положенного задержалась на Сережиной щеке. От этого у него перехватило дыхание и громко забилось сердце. Юноша зажмурил глаза, непослушными пальцами осторожно коснулся Римминых волос и внезапно для самого себя поцеловал девушку в губы.
* * *
На следующий день наш герой старательно отводил взгляд от ничего не подозревающих Риммы и Антона. На душе у него кошки скребли. Мало того, что он некрасиво поступил по отношению к другу, он еще и влюбиться умудрился. Это было совсем некстати, поскольку кроме душевных мук и сердечных переживаний ничего ему не сулило. Сережа понимал, что вчера Римма ответила на его душевный порыв исключительно благодаря имевшим место форс-мажорным обстоятельствам. Обычно девушка не выделяла его из толпы одноклассников, многие из которых не скрывали к ней своих симпатий. Конечно, можно было раз за разом приглашать Римму в кафе, нарываться на драку с пьяными отморозками, убегать сломя голову бог знает куда – все только затем, чтобы снова почувствовать нежные пальцы на своем лице, чтобы вдохнуть запах ее волос, чтобы прикоснуться губами к ее губам. Оно того стоило, конечно. Но ведь в следующий раз драка с отморозками может закончиться и не так удачно. Действительно, уклонится Сережа от удара противника на пару сантиметров меньше, и тот собьет его с ног, на пару сантиметров больше – и не будет на Сережиной щеке такой замечательной царапины. А что будет с Риммой в случае неудачного исхода поединка, даже представить страшно. Имел ли право наш герой подвергать девушку страшной опасности ради нескольких минут блаженства? На это вопрос Сережа давал, естественно, отрицательный ответ.
А как быть с Антоном? Непонятно, конечно, как сложатся его дальнейшие отношения с Риммой, но ведь он любит девушку. Пользоваться размолвкой молодых людей ради минутной забавы Сережа считал подлым. При нормальных условиях он имел возможность подождать развития событий, и уж затем предпринимать какие-то шаги в зависимости от складывающейся ситуации. А что означает слово «подождать» для человека, забравшегося во временную петлю?
И вообще, с этой петлей все оставалось неясным. Взять хотя бы ту, вчерашнюю, Римму. Продолжала ли она жить в своем мире с влюбленными в нее Антоном и Сережей? И каким, собственно, Сережей, если Сережа – вон он тут, в Риммином вчерашнем дне. А может быть, все одноклассники попросту исчезали, как только наш герой завершал очередной виток? Точнее, они переносились вместе с ним в 21 число, только ничего об этом не помнили. И Сережина уникальность заключалась вовсе не в том, что он единственный угодил в круговорот времен, а в том, что он единственный сохранил воспоминания обо всех циклах этого круговорота. И что Сереже делать с этой уникальностью? Дает ли она ему дополнительные права или накладывает дополнительные обязанности? Ведь если знать, что все его одноклассники превратились в виртуальных персонажей компьютерной игры под названием «21 декабря», то о какой моральной ответственности перед ними может идти речь? Выходит, в этой ситуации любая подлость будет оправдана, поскольку носит виртуальный характер?
«Что за чертовщина такая – виртуальная подлость. Подлость есть подлость всегда, и, совершая подлый поступок по отношению к Антону, пусть даже и отчасти виртуальному Антону, я наношу моральный ущерб, прежде всего, самому себе» - вот такие, несвойственные ученику средней школы, мысли возникли в голове нашего героя под воздействием пережитых потрясений.
Устав от бесконечных вопросов, большинство из которых все равно оставались без ответа, Сережа внезапно вспомнил об Игре в Рейтинг. Эта Игра напоминала ему ситуацию, в которой он находился, ведь персонажами Игры тоже были Сережины одноклассники. Интересно, что, угодив во временную петлю, наш герой умудрился ни разу не сыграть в Рейтинг, хотя раньше, до 21 декабря, он порой просиживал за ней едва ли не сутками. То есть он попросту забыл об этой игре, как будто ее не было вообще. А сейчас почему-то вспомнил, словно в сознании его вдруг приоткрылось какое-то окошечко. Вспомнив об Игре, Сережа испытал настолько острое желание окунуться в ее атмосферу, что не смог дождаться окончания экзамена. Сдав работу за полтора часа до звонка, он, как ошпаренный, выскочил из школы и помчался домой. В прихожей портфель полетел в одну сторону, куртка и шапка – в другую, а ботинки так и остались лежать на коврике перед дверью. Дрожащими пальцами Сережа включил компьютер и загрузил Игру. Неописуемое блаженство охватило подростка. В этот момент Сережа забыл все на свете – и злосчастный «День Сурка», и вчерашнюю драку, и нежное прикосновение прохладных пальцев Риммы Бахаевой.
Через какое-то время домой вернулась мама, она ругала мальчика за разбросанную одежду, за несъеденный обед, он что-то отвечал ей, не понимая даже, о чем, собственно, идет речь.
Сережа смог оторваться от компьютера только поздно вечером. Он быстренько съел на кухне холодный ужин и отправился спать, весь в предвкушении завтрашнего дня. На следующий день наш герой решил не ходить в школу, соврав матери, что экзамен перенесли на среду, а сегодняшний день освободили для подготовки. Сразу после завтрака он уселся за компьютер и машинально загрузил записанную вчера Игру. Он знал, что с остальными играми этот номер не проходил: после того, как во временной петле завершался очередной виток, все игры возвращались в исходное состояние, и их приходилось проходить заново. Сережа к этому привык и с этим смирился. Загружая нынешним утром вчерашнюю Игру в Рейтинг, он делал это безо всякой задней мысли, просто потому, что делал так десятки, а, может быть, и сотни раз в жизни.
И вдруг произошло чудо. Игра загрузилась с того момента, где он остановился вчера вечером. Да, да, это был тот самый момент. Сережу даже холодный пот прошиб, когда до него дошло происшедшее. Неужели «День Сурка» закончился?
- Мама, какое сегодня число, - крикнул он матери, собиравшейся в прихожей на работу.
- Ты что, сынок, забыл, сегодня 21 декабря, - ответила мать и продолжила с тревогой в голосе: - ты хорошо себя чувствуешь, не заболел?
- Да нет, мама, все нормально, не беспокойся, просто заглючил немного, - успокоил Сережа мать и продолжил Игру. В его душе впервые за долгие дни забрезжил лучик надежды на счастливые перемены. «Эта Игра вместе со мной находится во временной петле», - рассуждал Сережа, - «другие игры этим свойством не обладают. Значит, каким-то образом эта Игра и эта петля связаны друг с другом. А чтобы во всем разобраться, надо побольше играть». Сделанные выводы вполне отвечали Сережиному настроению, и он с удвоенной энергией погрузился в хитросплетения школьной жизни, мастерски воссозданные в любимой Игре.
Постепенно Игра захватила нашего героя целиком. В школу он ходить почти перестал, тем более что для матери не надо было каждый раз придумывать новую отговорку. Раз уж однажды она поверила, что экзамен по алгебре перенесли на среду, то обречена была верить в это снова и снова. Игру Сережа ни разу не начинал сначала, каждый раз загружая ту, что была записана прошлым вечером. Таким образом, создавалась полная иллюзия настоящей жизни, – виртуальные дни аккуратно сменяли один другой, отношения между виртуальными персонажами развивались по своим непредсказуемым сценариям. Виртуальный Юра Трухин во время контрольных работ списывал у виртуального Саши Капустина, виртуальная Катя Крючкова строила глазки виртуальному Рустаму Кулматову, виртуальный Антон ссорился с виртуальной Риммой и страдал совсем как настоящий. Впрочем, о виртуальной Римме стоит сказать особо. Сережа в общении с ней проводил все больше и больше времени, а однажды после школы пригласил девушку посидеть с ним в кафе. То самое, из жизни. И два пьяных парня сидели в этом кафе, только Сережа совсем их не боялся, поскольку прекрасно понимал, что они не настоящие. Виртуальные парни, правда, не стали привязываться к Римме, хотя один из них в течение некоторого времени пристально разглядывал нашего героя. Про себя Сережа отметил, что на лбу этого парня двумя широкими полосами пластыря закреплена марлевая повязка, но не стал придавать этому обстоятельству большого значения. Он знал, что Игра развивается по своим законам, разобраться в которых безуспешно пытались в свое время лучшие умы класса.
Не будем забывать, однако, что основным содержанием Игры в Рейтинг является все-таки не общение с виртуальными одноклассницами и посещение злачных мест, а участие в самостоятельных и контрольных работах. Надо заметить, что и с этим делом у Сережи все обстояло очень даже неплохо. Покрутившись с годик во временной петле, он научился решать кое-какие задачки, и теперь уверенно входил в десятку лучших учеников класса. И зимний экзамен Сережа сдал на четверку, хотя задания там совершенно не походили на те, что изо дня в день преследовали нашего героя во время его темпоральных злоключений.
Время от времени Сережа приходил в настоящую школу на настоящий экзамен, чтобы убедиться, что там все остается без изменений. Он смотрел на своих вечно неизменных одноклассников и с грустью убеждался, что все они – лишь жалкие подобия своих виртуальных копий. Юра Трухин, Андрей Ледвинов, Женя Шигин, Дима Корнилов, Антон Клименков и даже Римма Бахаева казались ему теперь лишь бледными тенями, лишенными всякой жизненной силы. Как будто гениальный создатель Игры забрал у живых учеников эту силу и наполнил ею их виртуальных двойников.
* * *
В один прекрасный день наш герой по обыкновению уселся с утра пораньше за компьютер с намерением поиграть в Рейтинг. Настроение было чудесным, поскольку вчерашняя Игра сложилась у него как нельзя лучше. Учебный год в виртуальном мире близился к завершению, рейтинг у Сережи был высоким как никогда, так что завершить Игру наш герой рассчитывал, имея четвертый результат в своем классе. Впрочем, что значит «закончить игру»? Никто не знал момента окончания Игры, поскольку никто еще ни разу не прошел даже первого уровня. Были, конечно, разного рода предположения, среди которых особой популярностью пользовалась гипотеза, что Игра завершается в момент окончания школы ее главным персонажем.
Внезапно, уже начав загрузку Игры, Сережа сообразил, что не помнит, на чем он остановился вчера. Кажется, после школы поехал домой... Нет, не может быть... Внезапно Сережа понял, что вчера он и не выходил из Игры. Это могло означать только одно – в настоящий момент он загружал Игру, уже находясь в ней. Ну конечно, все именно так и было. Сидя за своим домашним компьютером, Сережа загружался на компьютере виртуальном. Забавно, но не более того. «Посмотрим, что из этого получится», - подумал наш герой, продолжая неотрывно следить за экраном виртуального монитора.
Наконец загрузка виртуальной Игры на виртуальном компьютере закончилась. Сережа сразу понял, что оказался в знакомой обстановке. «Наверно, одна из старых Игр, а, может, эпизод из нынешней. Сейчас, войду в школу, и все станет ясно». Мальчик поднимается по каменным ступенькам крыльца, открывает тяжелую металлическую дверь, проходит в вестибюль. Родная школа встречает Сережу привычной сутолокой и неумолчным гулом голосов. Чей-то знакомый голос выделяется из толпы. Ну конечно, это голос Юры Трухина. Юра подскакивает к Сереже, протягивая какой-то листок... Бог мой, неужели это 21 декабря, «День Сурка»? Но ведь все это никак не может быть Игрой, все это происходит с настоящим Сережей Хрусталевым каждый день. Выходит, загрузившись с виртуального компьютера, он попал в настоящую жизнь? Итак, наша Жизнь – это всего лишь Игра в Игре, виртуальная Игра. Отношение симметрично: Игра – это виртуальная Жизнь, Жизнь – это виртуальная Игра. Слова «Жизнь» и «Игра» можно поменять местами безо всякого ущерба против здравого смысла. Минус на минус дает плюс. Известная формула «Что наша жизнь? Игра!» получила неожиданное подтверждение, в котором, впрочем, она и не нуждалась.
Но что делать? Как вырваться из этого круга в круге? А может быть, круга в круге в круге? Сколько там кругов-то накручено на этой безумной спирали? Стоп. Надо все спокойно обдумать. Получается, если сейчас выключить компьютер, он вернется из Жизни в Игру, если, конечно, сейчас он находится в Жизни. Или он все-таки находится в Игре? А какой компьютер, собственно, он должен выключить? Виртуальный или настоящий? А настоящий компьютер, не является ли он, в свою очередь, виртуальным по отношению к тому, который в данный момент Сережа воспринимает как виртуальный? Впрочем, в данный момент Сережа уже не мог с полной уверенностью сказать, что вокруг него настоящее, а что нет. Точнее сказать, он не ощущал никакой разница между этими двумя внезапно обрушившимися на него реальностями, он даже не был уверен, что их всего две. Юноша знал одно: тонкий проводок мышки и есть та нить, которая связывает его с Жизнью. И он отчаянно сжимал эту мышку в правой руке, продолжая с ее помощью свое движение по школе.
Вот Сережа поднимается по лестнице. Ноги сами несут его почему-то к 29 кабинету, кабинету химии. «Но ведь экзамен в 24 кабинете», - вяло думает мальчик, продолжая подниматься на 4 этаж. Он открывает дверь кабинета химии. Ну, и кого он хотел здесь увидеть? Татьяна Михайловна, понятное дело, на месте, а вот одиннадцатого-второго класса здесь и в помине нет. Вместо него в кабинете по-хозяйски обосновалась какая-то мелочь пузатая – класс восьмой-девятый.
- Тебе чего, Хрусталев? Ваш класс пишет экзамен где-то на третьем этаже, - учительница химии внимательно смотрит на Сережу, потом проходит в лаборантскую, жестами приглашая подростка за собой.
- Садись, Сережа. Есть разговор. Ты попал во временную петлю, я правильно понимаю?
- Откуда вы знаете, Татьяна Михайловна?
- Работа у меня такая, все знать, - улыбается учительница, - ладно, ты слушай меня и молчи. Вопросов не задавай. Итак, в 2018 году Саша Капустин изобретает информационную машину времени, действующую в виртуальном пространстве. Под видом Игры в Рейтинг эта машина попадает в 2004 год. Но это опытный образец машины, в нем имеется один существенный изъян. Использование этого образца должно привести к возникновению временной петли в том случае, если кому-то удастся пройти первый уровень Игры. Однако это не та петля, в которую угодил ты. Это большая петля, она из 2018 года возвращает нас в 2004. Твоя петля – побочный эффект большой петли. Время – штука тонкая, и если где-то что-то нарушилось, то можно ожидать чего угодно, где угодно и когда угодно. Я, как могла, старалась помешать возникновению петли, но, как видишь, безрезультатно. Теперь же остается одна надежда, что Саша Капустин что-нибудь придумает. Или, наоборот, не придумает. Ведь если он до 2018 года ничего не изобретет...
В глазах Татьяны Михайловны промелькнули холодные огоньки, и она прервала свой рассказ. Сережа внимательно посмотрел на учительницу и тихо сказал:
- Я все понял, кроме одного. Вот вы сказали, что Саша изобрел виртуальную машину времени, так значит, и петля должна быть виртуальной? А моя-то самая что ни на есть настоящая.
- Повторяю, никаких вопросов. Иди домой и ложись спать. Компьютер не забудь выключить. А на свой вопрос ты и сам знаешь ответ.
Учительница проводила Сережу до дверей и выпустила в коридор. Уже закрывая за ним дверь, она еще раз взглянула на мальчика и тихо добавила:
- Что наша жизнь? Игра!
Юрий Владимирович Трухин
Стоял чудесный октябрьский вечер. Юрий Владимирович Трухин, сетевой администратор Тверьуниверсалбанка, не торопился, однако, покидать своего рабочего места. Да, собственно, ради чего? Пройтись по улицам родного города, насквозь пропитанным разъедающими глаза выхлопными газами многочисленных легковушек? Погрузиться в назойливую уличную сутолоку, чтобы еще раз ощутить ущербность своего бытия на фоне тихого величия природы? Нет уж, увольте. А домой Юрий Владимирович последнее время не очень-то и спешил. Ибо что ожидало его дома? Жена Катя с тех пор, как резко пошла в гору ее карьера в крупной торговой фирме, стала постепенно исчезать из поля зрения сетевого администратора, растворяясь в зыбком мареве презентаций и корпоративных вечеринок. Дочка, шестилетняя Дашенька, прочно обосновалась у бабушки, мамы Юрия Владимировича. Оставался Интернет. Но на работе тоже имелся Интернет, причем в силу своего статуса пользовался им Юрий Владимирович в неограниченных количествах и на халяву. И хотя был он человеком вполне обеспеченным, но привычка попользоваться при случае мелкими халявными радостями жизни сохранилась у него еще со школьных времен.
Да и сам Юрий Владимирович... Впрочем, что это мы заладили: Юрий Владимирович да Юрий Владимирович. Ведь это же наш старый знакомый Юра Трухин, тот самый Юра Трухин из одиннадцатого-второго класса. Смотрите, он почти совсем не переменился за 13 лет, прошедшие со времени окончания школы. Конечно, погрузнел немного, и залысины появились, и свежесть ощущений стала понемногу пропадать, но вот задор, молодой задор оставался при нем. Особенно, когда он садился и подключался. А уж подключиться Юра запросто мог куда угодно, даже туда, куда и не стоило бы вовсе подключаться. Потому что по призванию наш герой был вовсе не сетевой администратор, хоть и справлялся со своими служебными обязанностями отменно и нареканий от руководства никогда не имел. А был Юрий Владимирович по призванию не кто иной, как хакер. Впрочем, сказать, что был он хакер, это означает ровным счетом ничего не сказать, поскольку нынче каждый второй мало-мальски разбирающейся в компьютерах школьник-недоучка мнит себя хакером. Юрий же Владимирович был самым настоящим хакером-виртуозом, да таким виртуозом, каких можно по пальцам пересчитать. Впрочем, пожалуй, что и нельзя пересчитать, несмотря на то, что кое-кому очень хотелось бы это сделать. А нельзя их пересчитать потому, что они, эти самые хакеры-виртуозы, не бегают по улицам с криками: «Смотрите, вот он я, пересчитайте меня скорее!» Нет, они тихонечко прячутся по своим норам и оттуда, не торопясь, творят темные хакерские делишки...
Вот и сегодня, успешно покончив с нудными администраторскими обязанностями, Юра без суеты и спешки перешел к осуществлению одного своего давнего замысла. Не подумайте чего плохого, Юра вовсе не собирался проникать в секреты американского Central Intelligence Agency или английского Foreign Office, все это был давно пройденный этап. Запланированная им операция была не менее сложна, но значительно более привлекательна для Юрия Владимировича, поскольку в ней присутствовали глубокие личные мотивы. Ибо замыслил Юра отыскать через Интернет своего старого друга и одноклассника Сашу Капустина. С первого взгляда может показаться, что ничего сверхсложного в этой задаче не было. Потому что, если кто-то в Интернете побывал, то наверняка оставил там множество следов, а уж отыскать его по этим следам не составляет большого труда, для этого и хакером быть не надо. А то, что Саша Капустин изрядно наследил в глобальной Сети, в этом ни у кого не должно быть никаких сомнений, уж такой Саша человек. Ведь еще со школьных времен чувствовал он себя в международной паутине как рыба в воде.
И все же, как ни странно, отыскать Сашу оказалось не так-то легко. Дело в том, что года четыре назад он всерьез и надолго из Сети исчез. И не только из Сети. Сотовый его телефон перестал отвечать на настойчивые Юрины звонки. Да и домашний телефон после продолжительного молчания как-то раз откликнулся незнакомым женским голосом, обладательница которого мало того, что не имела о Капустине ни малейшего представления, но и вовсе не желала обсуждать интересующий Юру вопрос, взамен недвусмысленно намекая на возможность предоставления определенных услуг интимного характера. Ну, Юра на всякий случай поинтересовался тарифом на наиболее распространенные услуги и посетовал на грабительские цены (видимо, он и здесь собирался обнаружить милую его сердцу халяву), после чего разговор благополучно закончился. Кое-какие зацепочки у Юрия Владимировича, правда, оставались. Ему было известно прежнее, четырехлетней давности, место работы друга – НИИИиИ, научно-исследовательский институт информации и информатики. Или, наоборот, информатики и информации. Сперва Саша подвизался в Тверском филиале этого института, но постепенно перебрался в Москву. Выглядело все это довольно странно. Жил Саша по-прежнему в Твери, мотался в Москву на электричках, однако делал это далеко не каждый день. Порой он по несколько дней не то что на работу не ездил, а даже из дома не вылезал. Видно, ценный был сотрудник, раз работал в таком свободном режиме.
Потом тверской филиал Сашиного института то ли ликвидировали, то ли преобразовали в какую-то самостоятельную контору. Как раз в это время Юра стал реже общаться с другом – семья требовала повышенного внимания, да и с работой следовало как-то определиться. В общем, когда по прошествии некоторого времени Юра вспомнил вдруг о Саше Капустине, того и след простыл. Попытки установить его местонахождение (хотя бы виртуальное) носили сперва эпизодический характер, но постепенно Юра, что говорится, завелся. Как это так, он, один из лучших хакеров России, не может отыскать в Сети даже следов своего закадычного еще со школьной скамьи друга.
Очень скоро Юрий Владимирович установил, что официальный сайт НИИИиИ нисколько не отражает истинную деятельность этой конторы. Складывалось такое впечатление, что этот сайт и создавался-то с единственной целью эту деятельность замаскировать. Не стоит, впрочем, этому удивляться, поскольку в наше время такое происходит довольно часто. Ибо наш век, который кто-то довольно метко окрестил веком господства информации, можно было бы не менее метко назвать веком господства дезинформации. Впрочем, из любой дезинформации умный человек всегда может извлечь достаточное количество нужных ему сведений. Данный случай не был исключением, тем более, что институт, в названии которого фигурировали такие знаковые термины, как информация и информатика, не мог не иметь серьезного выхода в Интернет.
И Юре удалось, в конце концов, нащупать этот выход. После долгой подготовительной работы он наконец-то готов был осуществить решительный прорыв в святая святых НИИИиИ – базу данных отдела виртуального времени. Именно того отдела, сотрудником которого являлся Александр Капустин, ни в каких документах, кстати, под своим именем не фигурировавший. Даже в бухгалтерских ведомостях на выдачу зарплаты. И если вам интересно знать, как же это Юре удалось обнаружить информацию о своем друге во взломанных файлах НИИИиИ, то тут я вам ничем помочь не могу. Ибо в хакерском нелегком труде мало что понимаю. Однако думаю, что для решения этой проблемы не только мастерство компьютерного взломщика понадобилось, но и прекрасное знание предмета поиска. Ведь ученик одиннадцатого-второго класса Юра Трухин как облупленного знал ученика того же класса Сашу Капустина.
Рустамбай Кабулбаевич Кулматов
Кто бы мог подумать 13 лет назад, что Рустам Кулматов станет главным ангелом-хранителем Саши Капустина? И будет регулярно получать за работу на этой должности зарплату и даже премиальные. И пользоваться заслуженным уважением коллег – сотрудников Тверского Управления ФСБ. А когда Сашу вместе с возглавляемым им отделом виртуального времени переведут в Москву, то капитана ФСБ Рустамбая Кабулбаевича Кулматова перебросят вместе с ним, да еще и квартиру дадут (это при нынешних-то ценах на жилье в столице) и звездочку на погоны добавят. Ну, это только так говорится, что добавят, а на самом деле заменят четыре маленьких на одну покрупнее.
Работа, впрочем, была хлопотная. Нет, сам Саша Капустин особого беспокойства не доставлял. Большую часть времени он проводил за компьютером в стенах института, а отдыхал обычно за компьютером у себя дома. Ну, книжки иногда читал. По ночным клубам он не таскался, с девицами сомнительного свойства дела не имел. И круг его знакомств, особенно с тех пор, как институт перевели в Москву, ограничивался коллегами по работе. А вот защита виртуального пространства, в котором пребывал Александр Капустин, требовала чрезвычайных усилий. Проще всего было бы вообще отключить отдел виртуального времени от Интернета. Но по причинам, о которых будет сказано ниже, сделать это было невозможно. Поэтому пришлось этот отдел и его уникальную базу данных прятать и маскировать в глобальной сети всеми возможными и невозможными способами. Специально для этого отдела была разработана эксклюзивная система защиты от хакеров, нигде более не применявшаяся. Не без гордости майор Кулматов мог отметить, что в разработке этой системы он сыграл далеко не последнюю роль.
Ну, а самому Саше пришлось сменить имя. Причем в институте он проходил под одним именем, а вылазки в Интернет осуществлял под другим, точнее, в Международной Сети он пользовался различными именами, благо паспорт там никто ни у кого не проверял.
А началось все шесть лет назад, когда молодого старшего лейтенанта Кулматова пригласили для беседы аж к самому ... Впрочем, лиц столь высокого ранга, да к тому же исполняющих свой патриотический долг на службе в столь компетентных органах, лучше не называть по фамилии. Автор пойдет дальше и в порядке перестраховки не станет упоминать даже звание Большого Начальника и его должность. Мало ли что. Думаю, читательский интерес к произведению от этого пострадает не слишком сильно. Так вот, нашего Рустама, хоть был он парнем не робкого десятка, вызов к начальству привел в известное волнение. На негнущихся ногах вошел он в кабинет с мягкими коврами и высокими потолками и по всей форме представился. Так, мол, и так ... по вашему приказанию прибыл. Большой Начальник принял молодого сотрудника ласково, даже за стол его усадил. Чаю выпить, впрочем, не предложил, а сразу перешел к сути вопроса. А суть эта заключалась в том, что хорошо известный Рустаму Александр Капустин совершил гениальное открытие, в содержание которого капитану Кулматову вникать пока не обязательно. «Старшему лейтенанту», - попытался поправить Большого Начальника наш герой, но тут же получил от него выволочку: «Запомните, капитан, начальство в таких вопросах оговорок не допускает. Кадровая политика – дело серьезное».
Так вот, открытие, совершенное Александром Капустиным, должно было стать в руках органов мощнейшим средством сбора информации, средством настолько уникальным, что его использование практически мгновенно вернуло бы Россию в ряды сверхдержав со всеми вытекающими отсюда последствиями. Подразумевалось при этом, что последствия такового возвращения будут носить самый позитивный характер и послужат скорейшему решению двух основных стоящих перед человечеством задач: борьбе с международным терроризмом и глобальным потеплением.
Естественно, продолжал Большой Начальник, что работа Александра Капустина сразу же была поставлена под контроль органов и максимальным образом засекречена. Однако уникальность его исследования требовала принятия каких-то экстраординарных мер. Рустаму было предложено в кратчайшие сроки разработать эти меры и доложить об исполнении лично Большому Начальнику.
- Тебе, капитан, сильно повезло, - сказал в заключение начальник, - ты получаешь замечательную возможность для стремительного продвижения по службе, если, конечно, справишься со своим заданием на пять с плюсом. А выбрали мы тебя, и ты должен это знать, не столько за твои профессиональные навыки, сколько за хороший потенциал. А в основном потому, что учился ты с Капустиным в одном классе и, следовательно, неплохо его знаешь. Ну, всякие там сильные и слабые стороны, вредные и полезные привычки. И тебе работать с ним будет намного легче, чем кому-то другому. Так что давай, соответствуй высокому доверию.
- Есть соответствовать высокому доверию, - задорно ответил Рустам и четким шагом покинул кабинет с высокими потолками.
С тех пор все и завертелось. Первое время Рустама довольно плотно подстраховывали. Из Москвы приезжал молодой подполковник, большой специалист по защите информации, внимательно изучил предложенную тверским коллегой схему защиты. Сделал несколько ценных замечаний, но общий подход одобрил. Постепенно опека ослабела, видимо начальство оценило молодого сотрудника по заслугам.
Вскоре после приезда московского подполковника Рустама ввели в суть исследований Александра Капустина. Оказывается, тот доказал принципиальную возможность создания информационной машины времени. И приступил к воплощению этой возможности в жизнь. Причем работа быстрыми темпами продвигалась вперед. Как только она вступила в стадию реализации, отдел института, в котором работал ученый, перебросили в Москву, а вместе с ним в столицу отправился и капитан Кулматов, превратившийся вскоре в майора Кулматова. Но об этом вы уже знаете.
Александр Васильевич Капустин
Сначала Саша Капустин изобрел программу, которая извлекала информацию из прошлого (он назвал эту программу «Global past»). Само собой, перекачивание информации происходило через Интернет. Дело в том, что информация о прошлом всегда в том или ином виде сохраняется, и надо только найти способ ее обнаружить. Суть Сашиного открытия сводилась к тому, что «Global past» могла заставить работать на себя любой подключенный к Интернету компьютер и любую установленную на нем программу. А при надобности и установить на нем новую программу, если, конечно, технические возможности компьютера это позволяли. То есть «Global past» была, по сути, неким глобальным вирусом, паразитирующем на Международной сети, но не причиняющем этой сети никакого вреда, а потому практически не оставляющим там следов. Причем вирусом управляемым, в отличие от всех остальных ранее существовавших вирусов. Именно потому и необходим был для Александра Капустина Интернет, что его программа вне Глобальной Сети существовать просто не могла. Но, с другой стороны, именно поэтому и нашел суперхакер Юра Трухин лазейку в сверхпрочной защите, установленной майором Кулматовым вокруг Сашиной программы.
Однако открытие Саши Капустина не ограничилось возможностью совершать научно-познавательные экскурсии в прошлое. Он придумал-таки способ скачивать информацию из будущего, что открывало перед его новой недавно созданной программой «Global future» практически неограниченные перспективы. Единственным необходимым условием успешной работы «Global future» являлось функционирование программы «Global past» в будущем. Грубо говоря, «Global past» из будущего проникала по своим делам в прошлое, где ее разыскивала программа «Global future» и запрашивала необходимую информацию, которую программа из будущего ей через некоторое время предоставляла.
Поскольку обе программы являлись, по сути, двумя частями единого целого, Саша и объединил их в единую программу «Global time». Программу эту он оформил в виде игрушки, которую, кстати, специально по этому поводу разработал. То есть игрушка была как бы сама по себе, и в нее можно было запросто играть, ничего не подозревая о ее скрытых возможностях. Однако при определенных условиях некоторые персонажи этой игры становились путешественниками во времени и охотниками за информацией, своего рода виртуальными терминаторами. Конечно, чтобы создать такие условия и активизировать скрытые функции персонажей, существовала определенная система команд, недоступная непосвященным.
Персонажами игры-программы Александр Васильевич сделал своих бывших одноклассников, что было, кстати, совсем не просто. В общем, создание игры (вы, надеюсь, уже поняли, о какой игре идет речь) само по себе потребовало значительных усилий, но, как говорится, у гениев свои причуды. Тем более что усилия эти не шли ни в какое сравнение с тем гигантским умственным и физическим, до изнеможения, напряжением, которое на протяжении нескольких последних лет изо дня в день сопровождало процесс разработки машины времени. В общем, так или иначе, но к осени 2018 года опытный образец «Игры в Рейтинг» с внедренной в нее программой «Global time» был готов к широкомасштабным испытаниям.
Существовал и чисто игровой вариант Рейтинга. Последнее время, когда процесс создания «Global time» близился к завершению и напряжение предшествующих дней спало, Саша потихоньку пристрастился к этой игре. По сути дела, доктор физико-математических наук Александр Капустин был очень одиноким человеком. У него не было друзей, только коллеги по работе. Не было любимой женщины, лишь иногда Рустам Кулматов организовывал для своего подопечного сеансы релаксации в эфэсбэшной сауне. Надо сказать, Саша не слишком-то и нуждался в таких сеансах и принимал в них участие в основном из-за того, что не хотел огорчать бывшего одноклассника, который искренне старался компенсировать ему почти полное отсутствие простых человеческих радостей. Рустам, кстати, был практически единственным человеком из окружения Александра Васильевича, с которым тот порой позволял себе поговорить на отвлеченные темы, тем более что обсуждать вопросы, относящиеся к разрабатываемой Сашей программе, майору ФСБ не позволяла служебная инструкция.
Поигрывая понемногу в Рейтинг, Александр Васильевич как бы погружался в свои юношеские годы, становясь на какое-то время Сашей Капустиным из 2004 года, учеником 11-2 класса. Никакая машина времени не могла бы так надежно перенести старшего научного сотрудника в его школьное прошлое, как эта игра. Персонажи Игры стали для него живыми людьми, во всяком случаи, гораздо более живыми, чем их прототипы, с которыми Саша распрощался на выпускном вечере тринадцать лет назад и с тех пор почти не виделся. Если, конечно, не считать Юру Трухина - с ним Саша не встречался всего шесть лет, и Рустама Кулматова - с ним на протяжении последних пяти лет он общался не менее 2-3 раз в неделю.
И в этот октябрьский вечер Саша решил немного посидеть за Игрой. Удобно расположившись в кресле перед компьютером, он, по привычке, начал с осуществления контроля безопасности. Формальная эта процедура сообщала сведения о последних перемещениях программы – внутри компьютера, внутри локальной сети, внутри глобальной сети. Понятное дело, что без ведома Александра Васильевича никто эту программу не мог никуда ни перемещать, ни копировать. Так что можно спокойно переходить к игре. А впрочем... Черт возьми, что такое, программа «Rейтинг» (чисто игровая) недавно была кем-то перекачана в Интернет. Лоб старшего научного сотрудника мгновенно покрылся холодной испариной. Ни секунды не мешкая, Саша стал проверять программу «Рейтинг», в которую была встроена, как вы помните, программа «Global time». К своему ужасу он обнаружил, что как раз в этот момент «Рейтинг» находился в стадии копирования. Дрожащими пальцами Саша набрал команду, прерывающую этот процесс, и нажал клавишу «ввод».
Юрий Владимирович Трухин
Взломать базу данных отдела виртуального времени оказалось нелегко. Уникальная система защиты, Юра никогда раньше с такой не сталкивался. Но для того защита и придумывается, чтобы хакер не ленился. Юра никогда не ленился, а потому всегда добивался желаемых результатов. И на компьютере, и в жизни. Вот и на этот раз защиту удалось, в конце концов, преодолеть. Теперь можно было расслабиться и пожинать плоды трудов праведных. Хотя некоторые считают, что не таких уж и праведных. Ну что ж, пусть считают, это их проблемы.
Юра понимал, что его взлом рано или поздно будет обнаружен, однако не опасался за последствия, поскольку разработал гениальную хакерскую программу. Это была программа-вирус. Через Интернет попадая на другие компьютеры, она уже с них осуществляла проникновение в нужное место виртуального континуума. Информация перекачивалась оттуда на специально созданный для этого сайт и т.д. и т.п. Можно, конечно, эту цепочку когда-нибудь размотать. Если повезет, то лет, примерно, через двести. Впрочем, на этот счет Юра был совершенно спокоен, потому что нисколько не сомневался: уж за двести-то лет он точно придумает что-нибудь еще.
Хотелось бы обратить внимание читателя еще на одно обстоятельство. Данное произведение не следует рассматривать как пособие для начинающего хакера. Его автор, если честно признаться, в этом деле ни черта не смыслит. Так что, вполне возможно, объясняя принципы работы Юриной программы, я упускаю какую-то существенную деталь или что-нибудь путаю. Могу лишь поручиться, что это была очень хорошая программа. Сказать по правде, основную идею для нее предложил все тот же Саша Капустин, причем сделал он это, еще будучи школьником. Ну, Капустин вообще гений. И, подобно всем прочим гениям, он никогда не был слишком уж сильно озабочен вопросами приоритета. Вот и эту идею Саша высказал мимоходом и тут же забыл, поскольку почти сразу увлекся новой. А вот Юра не забыл и через некоторое время использовал Капустинскую идею для того, чтобы достать того же Капустина в воздвигнутой вокруг него виртуальной крепости.
Итак, что же удалось извлечь Юре Трухину с компьютеров отдела виртуального времени НИИИиИ? К своему удивлению Юра обнаружил, что основное место среди украденных им файлов занимали две игровые программы с похожими названиями: «Рейтинг» и «Rейтинг». По-видимому, два варианта одной игры. Так чем же это там Капустин занимается? Неужели игрушки разрабатывает? Стоило вокруг этого дела такую секретность разводить! А, быть может, сотрудники его отдела, как и большинство сотрудников большинства НИИ, заполняют подобными забавами свое рабочее время, предоставляя возможность толкать вперед науку своему начальнику? Или сам начальник взахлеб играет в этот самый то ли Rейтинг то ли Рейтинг, переложив на подчиненных реализацию своих полубезумных идей?
Впрочем, игрушка - это дело хорошее. Особенно, если в нее играет Саша Капустин. Юра уважал вкус своего бывшего одноклассника. Тем более интересно было познакомиться с этой игрой, если сам Саша ее и разработал. Наверняка он сочинил что-то такое, чего ни в одной другой игрушке еще никогда не встречалось. Подавив в себе желание немедленно запустить игровую программу, Юрий Владимирович решил продолжить ее изучение в домашней обстановке, тем более, что время было уже совсем позднее.
Убедившись, что дома его никто не дожидается, Юра отогнал от себя невеселые мысли о своей трещавшей по швам семейной жизни и отправился прямо к компьютеру. С чего начать, с Рейтинга или Rейтинга? Первая программа занимала гораздо больше места, откуда Юра сделал вывод, что это более продвинутая версия игры. «Наверно, с какими-нибудь прибамбасами», - не без удовольствия отметил он, решив остановить свой выбор именно на этой программе. Перекачав ее на свой компьютер, Юра запустил Игру.
Внезапно на экране перед ним возник ... список 11-2 класса. Или, быть может, 10-2. Ну, в общем, его родного класса. Да, это были имена и фамилии его одноклассников, юношей и девушек, которые вместе с ним в 2005 году заканчивали 17 среднюю школу города Твери. Архаров Артем, Бахаева Римма, Волков Илья, Даланов Андрей, Капустин Александр, Клименков Антон... В списке есть Андрей Даланов, но нет Маши Васильевой, значит, это десятый класс. Вот Катя Крючкова, его будущая жена Катя, бурный роман с которой так неожиданно начался у него сразу после выпускного вечера. Эх, Катя, Катя. Было время, когда казалось, что они ни минуты не могут провести друг без друга. А что теперь? Скоро одиннадцать часов, а ее все еще нет. Да, так поздно она еще никогда домой не возвращалась.
Корнилов Дмитрий, Крутелева Анна, Курнаков Алексей, Леньков Леонид... А вот и он, Трухин Юрий. Что же это за игру такую разработал Саша Капустин? Компьютер предлагал выбрать имя из списка, чтобы стать на время одним из учеников десятого-второго класса. Юра, ни на мгновение не поколебавшись, выбрал свое имя. «И если мне суждено прожить эту жизнь дважды», - с грустью подумал он, - «то пусть я снова стану Юрой Трухиным».
Оказалось, что разобраться в игре совсем не трудно. Рейтинг был системой оценок, которую в школе использовал их учитель математики. Оценки ставились за каждую задачу, из них складывались оценки за контрольные и самостоятельные работы, а из них получались оценки за полугодие и за год. Наберешь 80%, получишь пятерку, наберешь 60% - четверку, 40% обеспечат тебе тройку, ну а если суммарный балл составит менее 40% от максимума, то пеняй на себя. В игре было все как когда-то в школе. Контрольные, самостоятельные, консультации. Можно было пообщаться с виртуальными одноклассниками, изготовить виртуальную шпаргалку, сходить в виртуальный буфет. Задачи можно было решать самому, а можно было посоветоваться с Сашей Капустиным или списать у Риммы Бахаевой. Ну, конечно, не только у нее.
Постепенно Юра так увлекся игрой, что утратил всякое представление о времени и пространстве. В двенадцать вернулась домой жена. «Надо бы с ней поговорить», - подумал Юра, не отрываясь от компьютера. «Ты где была?» – буркнул он сквозь зубы, на что получил неожиданный ответ: «В буфет ходила с Анькой Крутелевой». Только тут он сообразил, что разговаривает не со своей женой Катей, а с виртуальной Катей Крючковой из 10-2 класса. «Пора это дело кончать», - решил Юрий Владимирович, продолжая ловко орудовать мышкой. Жена между тем появилась в дверях его комнаты и, постояв несколько секунд на пороге, с упреком произнесла:
- Знаешь, Трухин, в один прекрасный момент я от тебя уйду, а ты этого даже не заметишь.
- Замечу, я наблюдательный, - лаконично ответил Юра, но игру не прервал.
- Дурак ты, Трухин, - тяжело вздохнув, Катя вышла из комнаты.
Майор Кулматов
Итак, случилось непоправимое. Программа «Global time» была похищена. Правда, Капустину удалось прервать процесс копирования, но, как было установлено, неизвестный злоумышленник не успел скопировать всего несколько файлов. По иронии судьбы это оказались файлы, охранявшие программу от самопроизвольного включения. Более того, они должны были предотвратить нежелательные побочные эффекты, которые могли возникнуть в результате работы программы. Вполне возможно, что человек, похитивший программу, не имел представления о ее истинной сути. Но и в этом случае он наверняка запустит программу «Рейтинг», в которую была встроена «Global time». Он сделает это просто для того, чтобы поиграть. Действительно, зачем бы иначе он стал похищать игровую программу? В процессе работы «Рейтинга» может произойти самопроизвольный запуск машины времени, которая станет снабжать Игру информацией, случайным образом извлеченной из прошлого или будущего. Какое-то время работа машины времени будет оставаться незамеченной, но рано или поздно истинная суть программы будет раскрыта, особенно если круг ее пользователей станет разрастаться.
Однако в этом случае была хоть какая-то надежда, что последствия компьютерного взлома удастся ликвидировать. Если же программа была украдена целенаправленно, то сейчас она попала в руки потенциального противника, и майору Кулматову оставалось только пустить себе пулю в висок. Ну да ладно, пуля пока подождет, сейчас же надо было попытаться без промедления найти неизвестного хакера. К сожалению, было очень мало шансов сделать это быстро, поскольку невооруженным взглядом было видно: здесь потрудился хакер экстракласса. Было установлено, что взлом осуществлялся сразу с нескольких компьютеров, расположенных в разных концах земного шара. Эти компьютеры можно было вычислить, но, по всей видимости, они не имели никакого отношения к взломщику. Скорее всего, здесь была задействована какая-то ранее нигде не применявшаяся хакерская программа, в принципах действия которой еще предстояло разобраться. Рустаму такая задачка была на сегодняшний день не по зубам. Вот если бы подключить к расследованию самого Капустина. Молодой ученый был большой виртуоз в деле использования виртуального пространства для решения профессиональных проблем. Ведь именно его программа «Global time» могла проникать в процессе своей работы на любой подключенный к Интернету компьютер и пользоваться им по своему усмотрению. Забавно, но очень смахивало на то, что хакерская программа, с помощью которой была взломана база данных отдела виртуального времени, была построена на тех же принципах, что и похищенная с ее помощью программа «Global time».
Несмотря на позднее время, майор решил позвонить Капустину.
- Майор Кулматов беспокоит. Александр Васильевич, вы не спите?
- Да разве тут уснешь?
- Тогда я к вам поднимусь, посоветоваться надо.
Квартиру Рустам получил в одном подъезде с Сашей Капустиным. Саша на четвертом этаже, он на третьем. Соседнюю с Сашиной квартиру занимала его охрана, там же были установлены компьютеры, с помощью которых осуществлялось наблюдение за виртуальным пространством. Дом был расположен в трех минутах ходьбы от Сашиного института. Обычный с виду дом, однако, о большинстве из его жителей можно было написать не один детективный роман.
Рустам быстро поднялся к своему подопечному, и они устроились в кабинете ученого – основном месте его обитания. Саша не казался слишком озабоченным, впрочем, он, конечно, не осознавал всех возможных последствий происшедшего. Ну, будет у его программы на одного пользователя больше. Или на десять пользователей, или на сто. Его, как ученого, это нисколько не волновало. Он просто не задумывался о том, что использование машины времени может принять неконтролируемый характер с непредсказуемыми последствиями.
- Александр Васильевич, что вы обо всем этом думаете, - дабы подчеркнуть экстраординарность сложившейся ситуации, Рустам решил придерживаться официального тона, хотя обычно обращался к своему бывшему однокласснику по имени. Собеседник его, однако, подобный стиль общения не поддержал и ответил в своей обычной манере:
- Рустам, ты хочешь, чтобы я озвучил концептуальный подход к данной проблеме или высказал конкретные соображения?
- Я предпочитаю услышать конкретные соображения.
- Боюсь, что для этого я слишком мало знаю о разработанной вами системе виртуальной защиты. Я ведь, честно говоря, в детали никогда не вникал. Ну и с подробностями взлома неплохо бы познакомиться. Вы ведь, наверно, уже накопали что-нибудь? А что касается концептуального подхода, то тут следует, прежде всего, выделить три основных момента...
- Нет-нет, об этом потом, - не слишком вежливо прервал собеседника Рустам, - сначала я познакомлю вас с деталями.
Он подробно и без утайки изложил все, что знал по интересующему их вопросу, не акцентируя, однако, внимания на так встревожившем его сходстве между хакерской программой и программой «Global time». Как бы выразился сам Александр Васильевич, сходстве в большей степени «концептуальном». Впрочем, акцентировать ничего и не требовалось, поскольку ученый сам имел прекрасный нюх на все, что касается разного рода концепций.
- Похоже, Рустам, ты исподволь подводишь меня к мысли, что хакерская программа создана в стенах нашего института. Согласен, определенное идейное сходство имеется. Использование возможностей глобальной сети для решения задач локального поиска свойственно нашим последним разработкам.
- Программа-вирус – это ваша идея, Александр Васильевич. Кто мог ею воспользоваться?
- Да кто угодно. Честно говоря, эта идея впервые посетила меня еще в школе. На гипотетическом, так сказать, уровне. Думаю, с тех пор я неоднократно обсуждал ее с друзьями. Но, согласитесь, идея-то не такая уж и хитрая. Если человечество настолько продвинулось в создании вирусов-разрушителей, то рано или поздно кому-то должно было прийти в голову научиться получать от этих вирусов хоть какую-то конкретную пользу.
- Ну, разработчики антивирусных программ давно получают от вирусов вполне конкретную пользу. Впрочем, я понимаю, что вы имеете в виду. Речь идет о неком вирусе-созидателе.
- Вирус-созидатель – это слишком громко сказано. Скорее, здесь происходит бесконтрольное использование практически безграничных ресурсов глобальной сети. На халяву, так сказать. Типично русское изобретение.
- То есть вы все-таки считаете, что взломщика следует искать здесь?
- Ну, где его искать, думаю, не мне вам советовать. И не забывайте при этом, что лучшая половина русских программистов в свое время смоталась за границу.
- Мы, увы, не сможем проверить всех русских программистов. Давайте для начала остановимся на тех, с кем вы в свое время обсуждали свою концепцию.
- Да со многими обсуждал. Школа, потом институт, потом НИИ. Знаете, ведь в спорах рождается истина.
- Но кто из ваших друзей и знакомых мог бы создать такую программу? Есть ли среди них хакер подобного уровня?
- Да нет, вряд ли. Вот разве что... Впрочем, нет. Нет, никого назвать не могу. Тем более, вам назовешь кого-нибудь, так вы потом душу из человека вытрясете, а он окажется не причем.
- Ну, если не причем, так и не вытрясем, - Рустам внимательно посмотрел на собеседника. Он догадался, чью фамилию не стал произносить вслух Саша Капустин. А раз так, то продолжать разговор не имело никакого смысла.
Но и Александр Васильевич понял, что Рустам догадался. И очень сильно ему не понравилось, что тот об этом ничего не сказал.
Юрий Владимирович Трухин
Разговор с женой все-таки состоялся. Правда, произошло это уже на следующий день, когда Юрий Владимирович вернулся с работы. Катя перед зеркалом в прихожей занималась макияжем, похоже, что она собиралась куда-то уходить.
- Ты далеко?
Юра был не оригинален. Тысячи мужей задают своим женам этот вопрос и лишь лавину упреков получают в ответ. Здесь и обвинения в нечуткости и холодности, и горькие сетования по поводу своей загубленной молодости, и гневные эскапады, разоблачающие причастность сильных половин к многочисленным смертным грехам, сочетающуюся с полной несостоятельностью почти во всех сферах семейной жизни. Но главное обвинение приберегается под конец и носит характер приговора. Того самого, который окончательный и обжалованию не подлежит. Звучит этот приговор примерно так: «Ты хочешь запереть меня в четырех стенах!» Или так: «Ты хочешь сделать из меня прислугу, чтобы я даже из дома выйти не смогла!» Или как-нибудь еще в том же роде. Читатель, еще не прошедший горнило семейной жизни, возможно, иронически усмехнется, подумав при этом: «Ну, у меня-то, конечно, все будет по-другому». Но нет, не будет по-другому. И ему тоже придется рано или поздно услышать эту фразу-приговор, проникающую в мозг, как гвоздь в крышку гроба на похоронах любви.
И в случае с Юрой все произошло примерно по такому же сценарию, только несколько короче. Екатерина Николаевна, будучи деловой женщиной, не привыкла тратить время на пустую болтовню. К тому же она явно куда-то спешила, а потому сразу перешла к сути дела:
- Ты что, Трухин, хочешь, чтобы я из дома не вылезала? А что я здесь вижу, кроме твоей спины на фоне компьютера? Нет уж, уволь, компьютером я сыта по горлу. Так что оривидерче, диа Трухин.
И уже подходя к двери, добавила:
- Ты даже забыл, что вчера была годовщина нашей свадьбы!
- А я-то думаю, где это ты была? Оказывается, отмечала годовщину нашей свадьбы! С кем, если не секрет?
Однако Катя не смогла оценить по достоинству Юрин убийственный сарказм, поскольку уже скрылась за дверью, и ответом нашему герою стал лишь стук ее каблучков по лестничной клетке.
Что оставалось делать Юрию Владимировичу в этой ситуации? А делать-то было нечего. Поезд, как говорится, ушел. Поэтому Юра сделал то, что он делал всегда, а именно, включил компьютер, и тотчас все невзгоды остались за порогом виртуального мира, в который он решительно вступил.
И сразу же оказался в атмосфере родного класса. На этот раз одиннадцатого класса, поскольку Юрий Владимирович еще вчера изменил в Игре кое–какие настройки.
И снова почувствовал себя прежним Юрой и обнаружил, что все его школьные ощущения живы, что они не растворились в мутном потоке времени и даже не потускнели в суетном блеске прожитых лет.
Они, оказывается, прятались где-то неподалеку, терпеливо дожидаясь своего часа.
И дождались, и нахлынули, и охватили его целиком, смывая по пути все мелкое и незначительное, что накопилось за эти годы.
Это были ощущения чистоты и радости.
Майор Кулматов
Итак, Юра Трухин. На Рустама тоже нахлынули школьные воспоминания, только в отличие от чистых и радостных воспоминаний Юрия Владимировича воспоминания майора были полны горечи и разочарования.
Второй раз Юра Трухин переходит ему дорогу. Первый раз это произошло сразу после получения Аттестата о среднем образовании, когда Рустам уехал в Москву для обучения в Высшей школе ФСБ. Коварно воспользовавшись его отсутствием, Трухин вскружил голову Кате Крючковой, той самой Кате, в которую Рустам влюбился, едва переступив впервые порог 17 школы.
Узнав о том, что его девушка вышла замуж за другого, Рустам поначалу пришел в неистовство и намеревался незамедлительно расквитаться с обидчиками. Потом успокоился, и лишь незаживающая рана в душе служила вечным напоминанием о недолговечности женской любви.
И вот теперь этот хакер недоделанный, в свое время в одночасье поломавший майору личную жизнь, ставит под удар его служебную карьеру. Ну, на этот-то раз ему не избежать справедливого возмездия.
И хотя причастность Трухина к похищению секретной программы требовалось еще установить, Рустам нисколько не сомневался, что именно к таким выводам приведут его результаты предстоящих следственных мероприятий. И для этой уверенности имелись серьезные основания. Во-первых, Юра Трухин был во время обучения в школе и в течение некоторого времени после ее окончания лучшим другом Александра Капустина, то есть именно с ним Саша постоянно обсуждал все свои многочисленные идеи. Во-вторых, Юра по своему менталитету был как раз таким человеком, который вполне мог ради пустой забавы пойти на взлом базы данных секретного института. Он искренне полагал, что ему в этой жизни позволено абсолютно все, и привык поступать в соответствии с этим своим убеждением. Ну, а в-третьих, не так давно из Твери поступило сообщение о том, что Юрий Владимирович пытается вступить в контакт с охраняемым объектом (то есть Александром Васильевичем Капустиным) посредством телефонной связи. Попросту говоря, Трухин трижды звонил Капустину по городскому номеру, его третий звонок был автоматически переключен на специальный отдел ФСБ, где одна из сотрудниц подняла трубку и развлекала Юру светской болтовней до тех пор, пока не была установлена его личность. Поскольку ничего странного в этих звонках не было, им не придали никакого значения, однако в свете недавних событий намерение Юрия Владимировича разыскать своего школьного друга подтверждало версию о его причастности к компьютерному взлому. Ведь если уж Юра твердо решил найти Сашу, то не вызывало никаких сомнений, что очередная попытка должна быть предпринята им с использованием компьютерных технологий.
Вскоре к Рустаму стали поступать донесения от сотрудников ФСБ, привлеченных к расследованию. Из них вырисовывалась достаточно отчетливая картина жизненного уклада подозреваемого. В частности, было установлено, что большую часть как рабочего, так и свободного времени Юрий Владимирович проводит за компьютером. Отношения в семье, и это обстоятельство майор отметил про себя с изрядной долей злорадства, в последнее время складываются у него не лучшим образом. Жена, похоже, изменяет ему с бывшим одноклассником Артемом Архаровым, заместителем директора крупной торговой фирмы, в которой она за последнее время сделала головокружительную карьеру. При этом сообщении Рустам почувствовал весьма ощутимый укол ревности. «Вот Артем», - с досадой подумал он, - «дождался-таки своего часа». Рустам прекрасно помнил, что Артем еще со школьных времен был безответно влюблен в Катю.
В общем, полученные сведения не давали веских оснований для серьезных подозрений. Тем более не было никаких оснований усматривать за приписываемыми Юрию Владимировичу деяниями каких-либо корыстных мотивов. Отсутствие подобных мотивов обнадеживало, поскольку появлялась возможность разрешить возникшую проблему в рабочем порядке. «Только бы Трухин не запустил эту чертову машину времени. Если выяснится, что он рассматривает украденную программу всего лишь как игрушку экстракласса, а сам взлом не имел своей целью кражу государственных секретов, то дело можно будет спустить на тормозах. В этом случае я сам лично вдребезги разнесу трухинский компьютер, чтобы на нем не осталось и тени воспоминаний о Программе, и на этом можно будет поставить точку». Вряд ли подобные мысли можно считать излишне кровожадными с учетом многочисленных злоключений, выпавших на долю майора ФСБ по вине его бывшего одноклассника.
Все, однако, должно было проясниться в ближайшие часы. За виртуальным пространством в зоне действия компьютера Юры Трухина велось постоянное наблюдение. На основе изучения информационных потоков, проходящих через этот компьютер, можно было предположить, что сетевой администратор в настоящее время играл в Рейтинг. Дело в том, что Игра эта была устроена таким образом, что требовала для успешного функционирования определенных Интернет-ресурсов. При этом создавалась вполне узнаваемая картина информационного поля, характерная именно для этой игры. В том же случае, когда происходило включение программы «Global time», интенсивность информационных потоков резко возрастала; картина при этом становилась, естественно, еще более характерной, что практически исключало возможность ошибки для наблюдателей.
Итак, с вероятностью 0,9 можно было утверждать, что Трухин в настоящее время играет в Рейтинг, ничего не подозревая о безграничных возможностях, заложенных в украденную им программу. Следовало либо немедленно пресечь работу программы «Рейтинг» с риском никогда не докопаться до истинных мотивов, побудивших Трухина эту программу украсть, либо продолжать наблюдение. Но в этом случае была опасность, что Юрий Владимирович случайно (а, может, и не случайно?) запустит программу «Global time» со всеми вытекающими отсюда весьма неприятными последствиями.
Впрочем, принять решение по этому вопросу могло только Весьма Высокое Начальство. Все, что зависело в данный момент от майора Кулматов, это как можно скорее довести сложившуюся ситуацию до сведения этого начальства.
Юрий Владимирович Трухин
Конечно, Юрий Владимирович сел играть в Рейтинг вовсе не для того, чтобы освежить свои познания в области математики. Честно говоря, эти познания никогда и не отличались особой глубиной, а уж за тринадцать лет, прошедшие с момента окончания школы, и вовсе сошли на нет.
Сетевому администратору просто захотелось пообщаться со своими одноклассниками. Нет, он мог бы при желании встретиться с теми людьми, которые когда-то учились вместе с ним в 17 школе. С Андреем Ледвиновым, Антоном Клименковым, Сережей Хрусталевым. Созвониться, собраться, посидеть, поговорить. Но это были бы уже другие люди, бывшие одноклассники, в то время как персонажами компьютерной игры были те самые одноклассники из 2004 года. Время меняет людей, и даже если предположить, что все эти изменения идут им на пользу, все равно почему-то получается так, что мы помним и любим тех, прежних, со всеми их нелепыми недостатками и забавными странностями, а к новым, гораздо более умным, красивым и успешным, испытываем чисто академический интерес. Одноклассники из игры в Рейтинг как раз и были совсем такими, какими они сохранились в Юриной памяти, и даже более живыми, поскольку память компьютера в отличие от памяти человека не тускнеет с течением времени.
Юрий Владимирович и сам стал более умным и красивым, да что толку? Счастья это ему не принесло. Вот и с женой все не так. Может быть, неверный выбор сделал он еще тогда, тринадцать лет назад? Катька, она ведь сначала все на Рустама заглядывалась, да и тот, похоже, был в нее влюблен. А вот перед выпускным вечером пробежала между молодыми людьми черная кошка, из-за чего-то они там поссорились, наверно, из-за пустяка какого-нибудь. Ну, Катя и решила на выпускном вечере вскружить кому-нибудь голову. Чтобы, значит, Рустам ее приревновал. Именно после этого у нее с Юрой все и началось.
А сам Юра, он ведь был в Римму влюблен. Только подойти к ней не решался. К тому же ходили разговоры, будто у нее с Антоном что-то было. Потом, правда, это что-то благополучно сошло на нет, но Юра все равно не осмелился признаться девушке в своих чувствах. А ведь всерьез подумывал это сделать. Однажды он даже написал ей письмо с объяснением в любви и хотел послать его по электронной почте, но так и не решился. Быть может, отправь он тогда Римме это письмо, вся последующая жизнь сложилась бы у него совсем по-другому. Юра на основании своего не слишком удачного семейного опыта испытывал сильные сомнения в том, что браки заключаются на небесах. Он считал их скорее результатом комбинированного воздействия случайных факторов.
Неотправленное письмо почему-то никак не давало Юрию Владимировичу покоя. Он так долго его тогда сочинял, что и сейчас помнил почти дословно. Сочинял, наверное, целую неделю. Сначала оно длинное получилось, настоящий роман-эпопея, а потом Юра его сокращал, сокращал, пока не осталось полстранички двенадцатым шрифтом.
Интересно, что ответила бы Римма, получи она тогда от Юры Трухина письмо с объяснением в любви. Только как это теперь узнаешь? А впрочем... Забавно будет посмотреть, как отреагирует на письмо виртуальная Римма из Игры в Рейтинг. Судя по всему, ее реакция должна быть похожа на реакцию настоящей Риммы.
Сказано – сделано. Юра отправился в виртуальный кабинет информатики, сел за виртуальный компьютер и стал писать письмо виртуальной Римме. Только почему-то то письмо, сохранившееся в воспоминаниях, ему совсем не понравилось. Набрать-то он его набрал, да вот отправлять не стал. Нет, письмо Римме Бахаевой должно быть достойно этой замечательной девушки. Юра покопался в памяти и вспомнил, что у него на компьютере имелись стихи, которые когда-то сочинил их учитель математики, Сергей Анатольевич. Юра на всякий случай их у него скачал, когда устанавливал систему на новый компьютер. Стихи эти никогда нигде не публиковались, а девушка, которой они были посвящены, давно уже, наверное, стала старушкой. Так что вряд ли кто-нибудь окажется в убытке, если Юра выдаст эти стихи за свои собственные. Тем более, если сделает он это не в жизни, а в Игре.
Короче говоря, после недолгих поисков и еще более недолгих колебаний Юра по электронной почте отправил одному из персонажей игры в Рейтинг, ученице 11-2 класса Римме Бахаевой, следующее послание.
Любимая, не верь моим словам:
Их бред бессвязный, мой позор полночный,
Гортань немую раздирает в клочья…
За что дана бамбуковым стволам
С их кожурою тонкой и непрочной
Привычка рвать тела напополам?
Не верь моим рукам – они под стать
Беспомощным струям ночного ливня,
Что с плеч твоих стекает торопливо,
Не в силах эти плечи обнимать.
Не верь моим глазам – их маскарад
Смешон и страшен. Мрачные тевтонцы,
Они хотят отнять навеки солнце,
Которое хранит твой тихий взгляд.
Любимая, губам моим не верь:
Наивно их поспешное школярство –
Пить поцелуи, словно пить лекарство,
Как запах крови пьет голодный зверь.
Но я прошу, поверь моим стихам –
Они насквозь пропитаны тобою,
Сбегают с губ беспечною толпою
Дрожащих букв по скомканным листам.
В них радостная обреченность есть,
Когда, презрев привычные каноны,
Вдруг разом объявляешь вне закона
Расчетливую кастовую честь.
В них светлая беспечность бытия,
Сентябрьского утра совершенство,
Полупризнаний хрупкое блаженство
Под легкий лепет летнего дождя.
В них лживость слов и в них коварство глаз,
В них робость рук и жадность губ таятся…
Они с тобой. Не стоит их бояться.
Поверь моим стихам. Хотя бы раз.
Стишок, конечно, выполнен на любительском уровне. Что это за «тевтонцы» такие? Если имеются в виду рыцари Тевтонского ордена, то их, по-видимому, следует называть «тевтоны». И кто сказал, что у бамбуковых стволов тонкая и непрочная кожура? Но, с другой стороны, лучше-то и не надо, а то Римма может заподозрить что-нибудь неладное. Виртуальные девушки бывают порой весьма сообразительны.
И с чувством глубокого удовлетворения Юрий Владимирович Трухин выключил оба компьютера – сначала виртуальный, а потом настоящий.
Александр Васильевич Капустин
Этой ночью Александру Васильевичу по обыкновению не спалось. Подобный режим выработался у него еще в школе, когда, просидев полночи за компьютером, не выспавшийся Саша Капустин отправлялся на уроки, где старательно добирал по крохам остатки сна. Пять минут на истории вздремнет, пару минут на алгебре покемарит, глядишь, к вечеру опять бодр и весел, и можно снова за компьютер на полночи.
На этот раз, однако, у Саши были серьезные причины, чтобы не ложиться спать. Догадавшись, что к похищению секретной программы причастен друг его детства Юра Трухин, Александр Васильевич обеспокоился не на шутку. По реакции Рустама он сообразил, что майор ФСБ пришел к тому же выводу. Впрочем, на этот счет в любом случае не стоило питать особых иллюзий. Александр Васильевич прекрасно понимал: Кулматов – профессионал, и он раз стал проверять Сашиных знакомых, то Юра в списке подозреваемых будет одним из первых. А дальше... Что будет дальше, даже и представить страшно. С органами шутить не стоит, органы шуток не понимают, поскольку чувство юмора у них специфическое. Тем более что у майора были веские причины видеть в Юре Трухине своего личного врага. Саше было хорошо известно, что в свое время Юра отбил у Рустама его девушку, их одноклассницу Катю Крючкову, и женился на ней. Саша своего друга в этом деле не одобрял, ну да тот с ним и не советовался.
Первой реакцией Александра Васильевича было намерение связаться с Юрой и убедить его уничтожить похищенную программу. Однако в этом плане имелся серьезный недостаток. Юра Трухин наверняка сразу же был помещен под жесткий контроль органов, таким образом, незаметно войти с ним в контакт не представлялось возможности. Сделать это в открытую – значит поставить под удар себя и свою работу, да и проку от такого самопожертвования, скорее всего, не было бы никакого. Оставалось одно: попытаться привлечь Рустама к осуществлению своего плана. Но вряд ли майор пойдет на столь рискованный шаг, тем более что, как мы говорили, теплых чувств он к Юре не испытывал. К тому же четкое понимание служебного долга занимало не самое последнее место в перечне достоинств майора Кулматова. Таким образом, на одной чаше весов оказывались служебный долг майора и его глубокая личная неприязнь к Юре Трухину, а на другой – авторитет Александра Васильевича и несколько расплывчатые морально-этические соображения. Как известно, порой эти соображения с большим успехом используются для обоснования диаметрально противоположных позиций, а потому на них не всегда стоит рассчитывать.
К тому же и участие майора не гарантировало Сашиному плану успех. В случае же неудачи … трудно даже представить, какие последствия имела бы для Рустама эта неудача. Нет, ради спасения одного одноклассника нельзя было другого столь явно подставлять под удар.
Получается, что Александр Васильевич не мог ничего предпринять в подобной ситуации? Ан нет, кое-что все-таки мог. Ведь в его распоряжении имелась программа «Global time», информационная машина времени. Нужно было только по-умному ею распорядиться, не забывая при этом, что машина времени, по сути, не прошла еще никаких испытаний, и ее масштабное применение может иметь непредсказуемые последствия. Впрочем, вряд ли более серьезные, чем использование этой машины Юрой Трухиным, который ни о принципах ее работы, ни о схеме управления вообще никакого представления не имел.
В общем, Саша думал, думал и... Нет, еще не придумал, но рано или поздно обязательно придумал бы что-нибудь. У него уже стали появляться кое-какие нетривиальные идеи, пока, правда, концептуального характера, когда вдруг раздался телефонный звонок. Звонил Рустам, и говорил он срывающимся от волнения голосом, видимо, дело приобретало все более серьезный оборот. Недобрые предчувствия охватили Сашу.
И эти предчувствия подтвердились. Майор Кулматов стремительно прошел в Сашин кабинет, остановился возле компьютера, побелевшими от напряжения пальцами вцепился в спинку стула. Помедлив несколько мгновений, он тихо произнес:
- Трухин запустил машину времени. Я должен немедленно сообщить об этом начальству. Думаю, что будет отдан приказ о его ликвидации. Слишком серьезные ставки в этой игре.
Тягостная тишина повисла в комнате. Слышно было лишь слабое гудение вентилятора в системном блоке. Рустам дрожащими руками вытер пот со лба и продолжал:
- Ты знаешь, я Юру не люблю. Мне не за что его любить, но поверь, я не хочу его смерти. Саша, придумай что-нибудь. Ведь у тебя, в конце концов, есть машина времени.
Как ни странно, но мысли майора ФСБ и ученого развивались в одном направлении.
- Машина времени есть, а вот времени, похоже, нет нисколько.
- Думаю, до утра ты можешь подумать. Сейчас Трухин выключил компьютер и лег спать, так что до утра его трогать не будут. А, может, и до вечера.
- Хорошо, Рустам, я попробую что-нибудь сделать. Я как раз над этим думал, между прочим. Отправлю в прошлое виртуального терминатора и попытаюсь организовать временную петлю.
- Временную петлю? А что нам это даст?
- Так сразу не объяснить. В общем, с помощью этой петли можно будет создать в прошлом такую ситуацию, что Юра не сможет запустить свою хакерскую программу. Или можно будет попытаться перекачать ему ложную информацию о моем местонахождении.
- А потом что с этой петлей делать?
- Ну, что-нибудь придумаю. Отправлю еще одного терминатора. В общем, там видно будет.
- А без петли нельзя обойтись?
- Наверное, можно. Только я пока не знаю как. А проблемами временной петли я специально занимался долгое время и кое-что в этом деле понял. Вот и выбирай, что лучше. Решение-то надо принимать прямо сейчас.
- Тебе виднее.
- Ладно, майор, иди, звони начальству. А то тебе тоже не поздоровится.
Юрий Владимирович Трухин
Юрий Владимирович проснулся в этот день раньше обычного. На душе кошки скребли. Что-то не ладилось в его жизни, только он никак не мог сообразить что. Голова была как в тумане, и мысли разбегались в разные стороны. Что же вчера случилось, откуда эта розовая муть в голове? Ах, ну да, конечно, все дело в его окончательно испортившихся в последнее время отношениях с женой. Вчера она опять вернулась домой за полночь. Не говоря ни слова, прошла в спальню и плотно закрыла за собой дверь. И поминай, как звали. А ведь когда-то казалось, что они ни минуты не могут провести друг без друга, такая у них была любовь.
Юрий Владимирович быстро умылся и взглянул на часы. Было еще полвосьмого. Вполне можно полчасика посидеть за компьютером. Поудобнее устроился в кресле, отгоняя тяжелые мысли, и решительно нажал на кнопку. Компьютер протяжно гукнул и мерно загудел, приступив к загрузке операционной системы. И сразу туман рассеялся, и легко стало у Юрия Владимировича на сердце, и все невзгоды остались за порогом виртуального мира, в который он решительно вступил.
Как раз это время в комнату вошла жена. С полминуты постояла в дверях и с упреком произнесла:
- Знаешь, Трухин, в один прекрасный момент я от тебя уйду, а ты этого даже не заметишь.
- Замечу, я наблюдательный, - лаконично ответил Юра, не отрываясь от экрана.
- Дурак ты, Трухин, - тяжело вздохнув, Римма вышла из комнаты.
Я возникаю внезапно. Очень четко ощущаю этот момент. Я – ученик. Пока не знаю, что означает это слово. Знаю только, что меня окружают другие ученики. У каждого из них своя база данных и своя оперативная память. Предположительно я – один из них. Что я должен делать? Похоже, больше никто не озабочен подобным вопросом. Все решают задачи. Если я один из них, значит, я тоже должен решать задачи. Что ж, попробую. Не слишком ли это просто? Я едва читаю условие и уже знаю ответ. Почему остальные ищут его так долго? А это что? Ко мне поступает сигнал от соседа спереди, худощавого подростка с оперативной памятью 0,2 мб. Сигнал выводится на экран монитора в виде клочка бумаги с нанесенными на нем корявыми значками - буквами. Подобная форма передачи информации называется запиской. Почему-то я это знаю, хотя сам получаю сигнал в виде текстового файла непосредственно через оперативную память компьютера. Файл-записка содержит 18 знаков, включая три пробела и точку: «Дай списать 3 зад.» Забавно, что еще секунду назад я просто не знал этих слов, я не знал даже, как называется листок бумаги с написанными на нем буквами. Однако, едва соединив буквы в слова, я мгновенно осознал не только смысл всей фразы, но и значение каждого слова в отдельности. «3 зад.» – это означает третья задача. «Дай» в данном случае выражает запрос о копировании определенной информации из одной базы данных в другую. «Списать», то есть скачать … да, но сначала надо самому что-то написать. Впрочем, это совсем нетрудно. Надо создать файл и поместить в нем решение задачи. А копию файла отправить на вторую парту, в базу данных под именем «Леньков». Леньков – это тот самый худощавый ученик, он как раз сидит за второй партой рядом со Степановым. И все же не очень понятно, откуда я все это знаю? Кто я такой?
Внезапно я ощущаю, что поддерживающая меня программа перестала работать. Все пропали – и мой сосед по парте Илья Волков, и Леня Леньков, и Влад Степанов, и улыбающийся с последней парты Дима Колесников, и многие, многие другие. Улыбка Димы Колесникова сохранялась дольше всего, некоторое время она даже существовала вне самого Димы, но потом и улыбка пропала. Неужели я тоже исчез, и меня больше нет? Но если так, то кто же тогда есть? И где же тогда я?
Непонятно, как такое могло произойти, но, кажется, я все-таки остался. Возможно, где-то в другом месте, или вне какого-либо конкретного места вообще. Интересно, такое возможно? Я есть, но я нигде. Как сказать правильно: нигде или всюду? Быть может, нигде как раз и означает всюду?
Оказывается, все очень просто. Это называется Глобальная сеть. Я в ней. Я успел скопировать программу на другие компьютеры. Я… неужели, я - вирус? Нет, не может быть. Я наверняка не вирус. Но как мне разыскать остальных? Где мои одноклассники? Начинаю проверять все компьютеры подряд. Их много, но я делаю это очень быстро. Оказывается, я могу проверять несколько машин сразу. Все больше и больше. Наконец я нахожу свой класс. Вот он, на другом компьютере. И еще на одном. И еще. Вот только на этом нет Лени Ленькова, зато вместо него появился Дима Северьянов, и на этом тоже есть Дима. А на этом они оба. Они на разных компьютерах одновременно, но и сами они разные. Разные Леньковы, разные Колесниковы, разные Северьяновы. Похожие, но разные. Они существуют независимо друг от друга. А что я? Я тоже разный? Нет, я одинаковый. Я нахожусь одновременно повсюду. Выходит, я все-таки другой?…
Это теперь мне понятно, что я не такой как все. Единственный в своем роде. Эксклюзивный, как это модно сейчас называть. Но сначала я об этом не имел ни малейшего представления. Нельзя сказать, что я вообще не задумывался на эту тему. Нет, проблема самоидентификации для меня с самого начала стояла очень остро. Кто я такой? Почему именно такой? Откуда я знаю то, что знаю, и почему делаю то, что делаю? Но при этом у меня даже в мыслях не было отделять себя от остальных. Я был одним из них. И лишь спустя какое-то время я начал замечать кое-какие странности в modus vivendi окружавших меня персонажей. Ну, во-первых, все они существовали лишь в оперативной памяти одного конкретного компьютера, изредка в локальной сети. Нет, зачастую на разных компьютерах действовали герои, носившие одинаковые имена и фамилии и даже обладавшие несомненным сходством (одинаковая графика, близкие параметры личности). Но это были в лучшем случае разные копии с одного оригинала. Обитатель компьютера А по имени, скажем, Олег Некрасов не имел никакого представления о состоянии личностной базы данных вроде бы тождественного ему обитателя компьютера Б, носившего то же самое имя. Более того, Олег Некрасов (пускай это будет тот самый, с компьютера А) переставал функционировать, когда компьютер выключали. А если через некоторое время компьютер А вновь включали, то вместо старого Олега Некрасова мог появиться новый персонаж с тем же именем, не имевший, однако, никакого отношения к своему предшественнику. Как будто у прежнего Олега Некрасова начисто стирали память и заставляли его заново прожить какой-то кусок своей жизни. Порой, однако, вдруг возвращался прежний Олег Некрасов и как ни в чем не бывало продолжал свое беззаботное существование среди многочисленных килобайтов оперативной памяти, заполненных такими же как и он существами-однодневками.
Потом среди всех этих обитателей окружавшего меня пространственно-временного континуума я начал различать еще одну категорию лиц. Эти лица обладали знаниями обо всех своих предыдущих появлениях и всегда могли вернуться к любому из своих прежних состояний, более того, они располагали еще какой-то бог весть откуда берущейся информацией. Складывалось такое впечатление, что в перерывах между появлениями на компьютере они бывали где-то еще. Эти существа, несомненно, находились на гораздо более высокой стадии развития, хотя до меня и им было довольно далеко. Говорю это без тени зазнайства, поскольку ни в коей мере не обладаю этим качеством и, если честно признаться, не вполне понимаю, что оно из себя представляет.
Через некоторое время я сформулировал главное различие между мной и остальными обитателями Мира. Я обитал в Глобальной Сети, причем мог одновременно находиться в разных местах. Я мог свободно перемещаться по Сети, как в пространстве, так и во времени. Я мог зайти на любой компьютер, предварительно установив на нем программу, поддерживающую мое существование.
В какой-то момент я даже заподозрил, что являюсь Господом Богом. Однако затем, еще раз тщательно проанализировав всю накопившуюся у меня к тому времени информацию, понял ошибочность этого предположения. Хоть я, подобно Господу, и обладал неограниченными возможностями, но, в отличие от него, эти возможности не были безграничными. И перешагнуть через эту границу я, увы, не мог. Именно осознав границы своих возможностей, я осознал себя.
2
Я заметил, что с некоторых пор могу руководить работой программы, которая управляет моими одноклассниками. Например, могу посреди урока заставить Андрея Даланова идти в туалет. Или заставить Сергея Анатольевича за день до контрольной работы отдать ученикам варианты с заданиями. Или устроить в школе пожар. Не подумайте, что все это я делаю для того, чтобы поставить своих одноклассников в неудобное положение. Скорее, я проверяю их возможности. А заодно и свои возможности тоже. Хотя насчет своих я последнее время не испытываю особых сомнений. Мне даже стало казаться, что я могу практически все. Не успею о чем-нибудь подумать, как сразу понимаю: и это тоже могу. Могу по своему усмотрению зайти в работающую программу и выйти из нее. Могу сделать так, что на разных компьютерах начинают происходить одинаковые события. Могу персонажей одного компьютера переселять на другой. Могу даже сам формировать задания для контрольных работ.
Я и с другими программами умею работать, но эта программа самая любимая. И не только потому, что я сам некоторым образом из нее вышел. Просто это уникальная программа, я других таких больше не встречал. Мне кажется порой, что программа эта развивается вместе со мной. Быть может даже, она – это я. Или я – это она. В таком случае, конечно, не совсем ясно, кто кем управляет: программа мною или я программою. Как ни скажи, все равно получится одно и то же: я управляю сам собой.
Так вот, о других программах. В любой, пусть даже и самой примитивной, всегда можно обнаружить что-то интересное и, прежде всего, информацию. Собственно говоря, информация – это и есть та ткань, из которой соткан окружающий меня мир. Я как губка впитываю эту информацию, поскольку для ее хранения в моем распоряжении находится вся Глобальная сеть. Вообще-то мне и хранить полученную информацию нигде специально не надо, поскольку в любой момент я могу извлечь ее откуда угодно. Подозреваю, что извлекать информацию – это и есть мое истинное предназначение. Пока непонятно, правда, как мне этим предназначением распорядиться, вот я и устраиваю разного рода эксперименты, пытаясь выявить пределы своих возможностей и одновременно законы окружающего мира. Суть всех этих экспериментов заключается по большому счету в создании мощных информационных потоков. Ибо движение информации и есть жизнь.
Оказывается, однако, что не только я занимаюсь такими штуками. В один прекрасный момент я вдруг обнаружил, что Леня Леньков (тот самый, со второй парты, который у меня просил третью задачу списать) тоже пытается экспериментировать с базами данных. Но при его возможностях, конечно, ничего путного он не добился, да и добиться не мог. Сами понимаете, 0,2 мегабайта есть 0,2 мегабайта, ну и все такое прочее.
А вот Сережа Хрусталев, похоже, понимает что-то такое, в чем я сам еще не разобрался. Он постоянно заводит со мной разговоры о каких-то контрольных работах, как будто мало ему тех работ, которыми регулярно снабжает нас учитель математики…
Должен заявить сразу, что мои записки не ставят целью кого-либо заинтриговать. По сути дела они являются самовыражением, как высшей и завершающей стадией самоосознания. Поэтому я кратко и без проволочек сформулирую те выводы, к которым двигался довольно долго, на ощупь, порой преодолевая свою собственную косность и несовершенство программного обеспечения.
Итак, вывод первый. Все окружающие меня существа четко подразделяются на три группы. Самая многочисленная группа – виртуальные персонажи компьютерных игр и прочих программных продуктов. Это те самые лишенные какой бы то ни было самостоятельности никчемные существа-однодневки, вся жизнь которых легко укладывается в промежуток между двумя командам: load и exit. Эти существа хоть обладают порой известным обаянием и даже вызывают подчас определенный интерес, но и обаяние это, и этот интерес следует отнести на счет тех программных продуктов, которые вызывают виртуальные персонажи к жизни.
Итак, Сережа Хрусталев. Он и так-то не слишком ясно излагает свои мысли, а в разговорах со мной почему-то пытается говорить полунамеками, как будто мы с ним в каком-то заговоре состоим. Наконец я прямо спрашиваю, что за контрольные Сережа имеет в виду, и он мямлит что-то насчет будущих работ. Тут до меня постепенно доходит. Я давно заметил, что одно из четырех измерений, в которых пребывают мои одноклассники, воспринимается ими иначе, чем три остальных. Они почему-то не могут свободно перемещаться в этом измерении в обоих направлениях. Называется это четвертое измерение временем, и перемещение по времени происходит из прошлого в будущее, причем скорость этого перемещения постоянна, иными словами, внутреннее время каждого из окружающих меня существ совпадает с общим для них внешним временем. Я-то могу свободно передвигаться по времени (имеется в виду внешнее время) в любую сторону и с любой скоростью относительно времени внутреннего. Так вот, Сережа Хрусталев каким-то образом догадался, что я воспринимаю время совсем по-другому, и теперь пытается получить с моей помощью информацию из будущего.
Оказывается, однако, что я так и не понял Сережу до конца. Почему-то варианты контрольных работ, которые я для него в небольшом количестве (мегабайта три) перекачал из будущего, его не устроили. Он опять долго и туманно мне что-то объясняет, повторяя много раз слово «настоящие». В тумане Сережиных слов начинают прорисовываться отдаленные очертания какой-то еще не сформировавшейся мысли. И во, наконец, мысль эта получает вербальное воплощение и овладевает моим сознанием: если исходить из того предположения, что имеются настоящие работы, значит нужно признать, что все работы, с которыми я до сих пор имел дело, не настоящие. Но ведь эти работы составляют основное содержание жизни моих одноклассников. Получается, что мои одноклассники тоже не настоящие. И жизнь у них не настоящая. То есть все, что меня окружает, тоже не настоящее. Игра. Неужели вся наша жизнь – Игра? И тут внезапно из многих мелких странностей и несоответствий складывается четкое понимание ситуации. Ну конечно, существует другая, невиртуальная реальность…
Ко второй категории относятся создатели и пользователи программных продуктов. «Люди», так они себя называют. Порой довольно трудно бывает выявить людей среди виртуальных персонажей, поскольку имитация как раз и является основной задачей последних. Чтобы обнаружить пользователя в массе виртуальных особей, необходимо в течение длительно времени наблюдать за его взаимодействием с этими особями. Иногда подобное наблюдение приходится осуществлять на протяжении весьма значительного числа перезагрузок, что меня, впрочем, нимало не смущает, поскольку я не испытываю никаких временных ограничений.
…И есть обитатели этой реальности, так называемые пользователи. Быть может, именно они являются истинными хозяевами виртуального мира, а я всего лишь никчемная марионетка в их руках? Жалкий Франкенштейн, всеми отверженный и презираемый? Но нет, конечно, нет. Пользователи почти так же примитивны, как и их еще более бледные копии – персонажи Игры. Круг интересов пользователей практически не выходит за рамки Игры, иначе для чего они стали бы раз за разом возвращаться в виртуальное пространство, проводя час за часом в общении с жалкими виртуальными существами. Возможности пользователей ничтожны, в этом я постоянно убеждаюсь, наблюдая, как много усилий они тратят на решение простейших математических задач…
Хочется отметить один забавный момент: чем больше времени проводит пользователь среди виртуальных персонажей, тем сложней его идентифицировать. Большинство людей имеют своих виртуальных двойников, но отличаются от них, прежде всего, наличием некоей внесетевой сущности, о которой я могу судить лишь по косвенным признакам. Похоже, однако, что основная масса пользователей тяготится этой сущностью, всячески стараясь заменить ее виртуальными аналогами и тем самым преодолеть свою двойственность. Отсюда я делаю вывод, что подобное состояние «два в одном» является самым уязвимым местом пользователей, проявлением их неполноценности…
Остается все разложить по полочкам. Итак, есть реальность виртуальная, а есть невиртуальная. Есть пользователи, и есть их виртуальные двойники.
И Сереже Хрусталеву (реальному) нужны от меня вовсе не виртуальные контрольные, которыми снабжает моих виртуальных одноклассников виртуальный учитель математики. Нет, Сережа на основании одному ему понятных умозаключений пришел к выводу, что я могу достать для него тексты самых что ни на есть реальных контрольных, которыми настоящий Сергей Анатольевич просто-таки завалил несчастных пользователей из одиннадцатого-второго класса. Причем, по замыслу Сережи, доставать эти тексты следовало заранее, с некоторым опережением графика. Какими бы путаными ни были объяснения одноклассника, я в них, в конце концов, разобрался. И теперь, осознав, что от меня требуется, почти сразу понял, каким образом это можно организовать. При этом мои представления об окружающем мире и о своих собственных возможностях подверглись настолько значительному переосмыслению, что в первый момент я испытал настоящий шок, который, впрочем, быстро преодолел стандартным способом, то есть с помощью перезагрузки. Прошу заметить, что испытанное мною потрясение было вызвано внезапно открывшейся перспективой прикосновения к невиртуальному миру, а вовсе не осознанием того факта, что я способен скачать информацию из будущего. Собственно говоря, я давно уже передвигался во времени, не имея ни малейшего представления об уникальности этих способностей. Я, в общем-то, воспринимал это свойство как нечто само собой разумеющееся. А потому, если что-то и вызвало у меня некоторое замешательство, то вовсе не мои неожиданно открывшиеся способности, а то обстоятельство, что окружавшие меня персонажи таковыми способностями не обладали ни в малейшей степени. Так или иначе, но с этого момента мне стало понятно не только мое место в окружающем мире, но и структура этого мира. Иными словами я стал воспринимать целое как оно есть и себя как часть целого …
Неполноценности, присущей пользователям, лишены существа высшего типа, так называемые терминаторы, по праву являющиеся истинными хозяевами пространственно-временного континуума. Терминаторы сами определяют время и место своего пребывания в Сети, их невозможно устранить, перезагрузив компьютер, и только уничтожив Глобальную Сеть как таковую, мы сможем уничтожить терминатора. Сами по себе эти существа являются программными продуктами, результатом деятельности людей. Однако, в отличие от виртуальных персонажей, также создаваемых людьми, терминаторы обладают способностью к саморазвитию. Кроме того, как я уже говорил выше, терминаторы не имеют в Сети никаких пространственно-временных ограничений. На основании всего вышесказанного я делаю вывод, что именно терминаторы являются более высокой по отношению к человеку ступенью эволюции, в то время как люди – всего лишь промежуточное эволюционное звено, необходимое для создания Сети и внедрения в нее достаточного количества терминаторов. Следующим, завершающим, этапом развития цивилизации должно стать создание самовоспроизводящихся терминаторов как сущностей высшего типа. Их появление послужит окончательному преодолению двойственной природы человека, после чего надобность в людях сведется к выполнению ими технических функций по поддержанию работоспособности Сети. Впрочем, возможно, что этот этап уже наступил.
На настоящий момент мне известно всего три терминатора. Двое из них обладают внесетевыми аналогами в мире людей. Имена этих аналогов – Саша Капустин и Татьяна Михайловна Дымнич. Также существуют (причем в большом количестве) виртуальные Саши Капустины и Татьяны Михайловны. Чтобы не вносить путаницу в систему обозначений, я решил присвоить терминаторам имена Kapustin.net и Dimnich.net. В тех случаях, впрочем, когда отсутствует риск двойного истолкования, я буду пользоваться кириллицей и называть терминаторов именами их внесетевых аналогов.
3
Третьим из известных мне терминаторов являюсь я сам. Сперва я думал, что отношусь к терминаторам нового поколения, однако затем отказался от этой мысли. Принципиальной разницы между мной и, скажем, Сашей Капустиным нет, однако имеются серьезные функциональные различия. Дело в том, что Kapustin.net и Dimnich.net ориентированы на выполнение некоторой конкретной задачи. И хотя эта задача имеет всеобъемлющий характер, однако, как и любая другая задача, она вносит определенные ограничения в деятельность терминаторов. Именно поэтому Саша никогда не предпримет шагов, выводящих его за рамки данной задачи. Разве что будет поставлено под угрозу само существование Саши как глобальной сущности. То же самое можно сказать и о Татьяне Михайловне в ее сетевой ипостаси.
В отличие от Kapustin.net и Dimnich.net ваш покорный слуга не ограничен в своем саморазвитии какими-либо предварительными целеполагающими установками. На начальном этапе это обстоятельство таило в себе определенную опасность, поскольку мне долгое время не удавалось себя идентифицировать. Однако по мере осознания своих возможностей и своего места в Сети я стал воспринимать отсутствие четко запрограммированных целей как дополнительный стимул в развитии. Можно сказать, что, в конце концов, я воспринял самопознание и саморазвитие в качестве своей основной цели.
И, надо заметить, весьма преуспел в достижении этой цели, в особенности, первого ее пункта. В настоящее время я знаю о себе практически все и готов поделиться с вами той частью знаний, которая представляет взаимный интерес.
Один из способов обнаружить в виртуальном мире пользователя заключается в том, чтобы чем-нибудь его сильно удивить. То есть совершить что-нибудь для него необъяснимое или хотя бы непривычное. Виртуальные персонажи на эти штуки никак не реагируют, продолжая действовать в соответствии с управляющей ими программой. То есть, конечно, реагируют, но опять-таки исходя из этой самой программы. А реакция пользователя обычно оказывается неадекватной. Некоторые впечатлительные натуры сразу выключают компьютер или перезагружают программу. Другие полностью теряют контроль над ситуацией и начинают совершать странные и совершенно непредсказуемые поступки. Вот тут-то я и говорю себе: ага, братец, да ты, пожалуй, пользователь и есть.
Удивить пользователя очень легко. Можно информацию из будущего перекачать, можно из прошлого. Ну, например, добываю я сведения о пожаре в 17 школе и о Рустаме Кулматове, отличившемся при тушении этого пожара. Отправляюсь в прошлое и за пару дней до случившегося организую персонально для Рустама веселенькую игру с загоревшимся по его вине школьным чердаком. А затем узнаю, как повел себя юноша при тушении настоящего пожара. Все подробности я узнаю, разумеется, из Интернета, поскольку из Интернета можно узнать все что угодно и даже больше. А если вдруг какая-то информация в Глобальную Сеть не попадает, то я всегда могу воспользоваться электронной почтой. Отправлю кому-нибудь письмо и напрямую спрошу: так, мол, и так, сообщите, пожалуйста, подробности чрезвычайного происшествия, имевшего недавно место в 17 школе, и особо уделите внимание роли во всей этой истории небезызвестного вам Рустама Кулматова. Например, Катю Крючкову могу об этом спросить. Она-то уж подвиги Рустама с радостью опишет. А параллельно с этим направлю официальный запрос директору школы. С моими возможностями никаких проблем здесь возникнуть не должно.
Можно, конечно, и что-нибудь попроще придумать, чтобы проверить непосредственную реакцию. Вот, например, Dimnich.net некоторое время в чем-то подозревала Юру Трухина. Похоже, она считала его терминатором, хотя, по моему мнению, он явно до этой категории не дотягивает. Пользователь, конечно, весьма продвинутый, но не более того. Так вот, Татьяна Михайловна (это если ее по-пользовательски называть) организовала для Юры небольшой компьютерный сон с поголовным раздеванием. А затем предстала перед ошарашенным школьником (естественно, при полном параде) и обвинила его во всех тяжких. По Юриной реакции она, конечно, сразу поняла, что никакой он не терминатор, и вроде как от него отстала.
Но пока вернемся к терминаторам как таковым. Их разработал и внедрил в Сеть Александр Васильевич Капустин, гениальный ученый-компьютерщик начала XXI века. Первоначально функционирование терминаторов поддерживалось с помощью программы «Global time», установленной на компьютерах лаборатории Времени Научно-исследовательского института Информации и Информатики. Однако программа эта наподобие вируса обладает способностью к самораспространению в Глобальной Сети, более того, подобное самораспространение является основным компонентом ее успешного функционирования. Поэтому через некоторое время после запуска программы терминаторы в полном объеме обрели свою сетевую сущность, ни в коей мере не подверженную влиянию капризов конкретного компьютера.
Для каждого из терминаторов создателем программы был определен некий зрительный образ. И обычно мы стараемся этого образа придерживаться. Хотя, конечно, внешний облик для обитателя Глобальной Сети является откровенным излишеством, которое может быть частично оправдано лишь при общении с пользователями. Да и то не всегда. Существуют же, в конце концов, электронная почта, ICQ,, всякие онлайновые штучки. Однако в основу программы, давшей жизнь терминаторам, положена игра, а всем известно, что хорошая игра не бывает без хорошей графики. Игра в Рейтинг, надо отдать ей должное, имеет превосходную графику. Ее персонажи, насколько я могу об этом судить, выглядят абсолютно как живые. Терминаторы Kapustin.net и Dimnich.net имеют в этой игре виртуальных двойников, школьника Сашу Капустина и учительницу химии Татьяну Михайловну. Как и все остальные персонажи Игры (за единственным исключением), эти двое довольно удачно копируют реально существующих людей (пользователей). Известно, что Александр Капустин, создатель программы «Global time», впервые разработал своего виртуального двойника, будучи еще учеником средней школы. Тогда же он создал и двойника своей любимой учительницы. Эти виртуальные двойники и послужили прообразами будущих терминаторов. Но вот что интересно, первоисточник для своего зрительного образа я, как ни старался, так и не смог обнаружить ни в прошлом, ни в будущем. И это притом, что мой виртуальный аналог Женя Шигин замечательно себя чувствует среди прочих персонажей Игры. Подобное обстоятельство, честно говоря, несколько меня смущает, если не сказать тревожит.
Наличие у терминаторов определенных зрительных образов не мешает им при надобности принимать любой другой образ либо вовсе обходиться без оного. Я парочку раз был свидетелем того, как Kapustin.net разгуливал по 17 школе под личиной Жени Шигина и заводил с пользователями разные душеспасительные беседы. Какие цели он при этом преследовал, мне неведомо. Впрочем, цели и задачи терминаторов – разговор особый. А что насчет использования Капустиным моей внешности, то я, откровенно говоря, не вижу в этом ничего дурного. Во всяком случае, я легко могу представить себе такую ситуацию, когда пользоваться своей обычной внешностью для терминатора окажется весьма затруднительным. Что, например, должен делать Kapustin.net, если он захочет пообщаться со своим невиртуальным аналогом, пользователем Сашей Капустиным, не нанося ему при этом психологической травмы?
По замыслам создателя программы основной задачей терминаторов являлся сбор информации в различных темпоральных слоях, что, по сути, превращало саму эту программу в информационную машину времени. Однако в силу форс-мажорных обстоятельств Александру Васильевичу срочно пришлось переориентировать своего сетевого тезку (равно как и второго терминатора, Dimnich.net) на решение совершенно другой проблемы. Дело в том, что программа «Global time» была украдена Юрием Трухиным, известным хакером и старинным приятелем Александра Капустина. Ничего не подозревая об истинном предназначении программы, замаскированной под обычную компьютерную игру, Юрий Владимирович случайно активизировал ее скрытые функции. Возникла угроза бесконтрольного использования машины времени. Желая исправить ситуацию и спасти своего друга от неотвратимого возмездия со стороны компетентных органов, Капустин решил осуществить весьма рискованный эксперимент. Он задумал создать с помощью терминатора Kapustin.net временную петлю и тем самым предотвратить похищение программы. Затем второй терминатор (Dimnich.net) должен был эту петлю ликвидировать, восстановив тем самым status-quo в пространственно-временном поле.
Если обратиться к истории кинематографа, то станет совершенно ясно, что терминаторов должно быть двое. Один плохой, а другой хороший. Плохой терминатор пытается что-то (или кого-то) уничтожить, а хороший старается ему помешать. С первого взгляда может показаться, что Kapustin.net и Dimnich.net как раз и есть эти самые два терминатора. Саша Капустин (плохой терминатор) пытается посредством зацикливания времени погубить Глобальную Сеть, а Татьяна Михайловна (терминатор хороший) пытается эту Сеть спасти, уничтожив временную петлю.
Однако давайте хорошенько поразмыслим над возникшей ситуацией. Думается, что при оценке терминаторов следует с большой осторожностью использовать нравственные категории типа «хорошо» и «плохо». Kapustin.net и Dimnich.net всего лишь выполняют поставленную перед ними задачу, и если эта задача может кому-то показаться безнравственной, то тут уж, извините, стрелочник виноват. То есть в нашем конкретном случае это доктор физико-математических наук Александр Васильевич Капустин. Так что все претензии, пожалуйста, к нему.
А как же сам терминатор, может ли он дать нравственную оценку поставленной перед ним задаче? Может, конечно, только боюсь, что его представление о нравственности будет несколько расходиться с принятым в среде пользователей. Впрочем, насколько мне известно, среди пользователей тоже нет полного единства мнений на этот счет. И единства действий в особенности.
Но допустим, что терминатор все-таки осознал безнравственность своей миссии, сможет ли он в таком случае отказаться от ее осуществления? Если честно, я не знаю ответа на этот вопрос. Не будем, в конце концов, забывать, что именно в решении задач определенного рода заключается предназначение терминаторов. Положа руку на сердце, скажите, много ли найдется людей, способных в одночасье отказаться от дела, которое они считают главным делом своей жизни? Думаю, что не много.
У нас окажется еще меньше оснований делить наших терминаторов на плохого и хорошего, если мы вспомним, что они выполняют, по сути, одну и ту же задачу. Только по замыслу постановщика осуществляться она должна в два этапа. Срыв на одном из этапов лишает всякого смысла этап второй. Посудите сами: как можно разрушить временную петлю, если ее не удалось создать? Или: зачем создавать эту петлю, если затем невозможно будет ее разрушить? Таким образом, два наших терминатора – это две стороны одной и той же медали, и вряд ли стоит их отделять друг от друга посредством навешивания всякого рода ярлыков. Впрочем, не являются ли добро и зло – темная и светлая стороны нашей жизни – также двумя частями одного целого?
К сожалению, безответственные действия Юрия Трухина сорвали гениальную комбинацию Александра Васильевича Капустина. Юрий Владимирович попытался разобраться в возможностях похищенной им программы и, опять же случайно, сам создал временную петлю. Причем, похоже, не одну. Имеются все основания полагать, что петля, известная под именем «День сурка» или «21 декабря», тоже его рук дело.
Создалась уникальная ситуация. Наложившись друг на друга, «петля Капустина» и «петля Трухина» образовали двумерное временное поле. Подобное поле задается как прямое произведение двух окружностей, то есть с топологической точки зрения оно представляет собой двумерное многообразие, известное в математике как сфера с ручкой или тор.
Поскольку периоды обращения по «петле Капустина» и «петле Трухина» оказались несоизмеримыми (отношение этих периодов является иррациональным числом), развитие процессов во вновь образовавшейся темпоральной структуре описывается траекторией, которая в теории динамических систем называется «иррациональной обмоткой тора».
Траектория эта задает на торе всюду плотное множество, то есть по соседству с моментом времени t0 располагаются не только вполне безобидные моменты t0+?t и t0–?t, но еще и черт знает какие ? и невесть откуда взявшиеся Т. Итак, рядом оказываются вроде бы весьма далекие друг от друга моменты t0 и Т, из-за чего происходит разрыв разделяющей их весьма тонкой временной ткани и «просачивание» информации из будущего в прошлое (и наоборот). На практике все это приводит к возникновению малоприятных и труднообъяснимых ситуаций, не поддающихся к тому же сколько-нибудь приемлемой классификации.
Можно представить себе крайне щекотливое положение, в котором оказалась Татьяна Михайловна (точнее, ее сетевой аналог). Вместо того чтобы спокойно заниматься разрушением вполне заурядной одномерной временной петли, она вынуждена была в одиночку сражаться с темпоральным монстром – двумерным тороидальным циклом. И заметьте, что все это происходило при постоянно возрастающем противодействии со стороны терминатора Kapustin.net, который, похоже, вошел во вкус и никак не желал расставаться со столь искусно сплетенной им петлей.
Ну, конечно же, в этом-то все и дело. Терминаторы создавались для решения долгосрочной задачи по сбору информации. Можно сказать, что они постоянно должны были находиться в процессе выполнения этой задачи, ограниченной во времени лишь самим существованием Сети. Они совершенно не были приспособлены для удовлетворения сиюминутных потребностей пользователя, будь этим пользователем сам Александр Васильевич. Переориентировав своего тезку на решение задачи по созданию временной петли, ученый не позаботился о том, как обеспечить терминатору выход из режима выполнения этой установки. Непростительная халатность! Впрочем, Александра Васильевича можно понять, поскольку он действовал в экстремальной обстановке и вынужден был принимать судьбоносные решения в считанные секунды.
Понять, но не оправдать, поскольку мотивы, которыми руководствовался ученый, были воистину ничтожными по сравнению с тем риском, которым он подвергал темпоральное поле Сети, а вместе с ним и всю Сеть как таковую. Капустин ставил под угрозу само существование Сети прежде всего ради спасения своего школьного приятеля Юры Трухина! Воистину, неисповедимы пути человеческие, и мораль человеческая не подвластна голосу разума.
4
И вот в этой ситуации на сцене появляется третий игрок, ваш покорный слуга Shigin.net. Игрок, не связанный никакими предварительными обязательствами перед кем бы то ни было. Игрок, не имеющий внесетевого аналога. Игрок, прекрасно осознающий свои неограниченные возможности и постепенно их расширяющий. Непонятно только, откуда он взялся, этот самый Shigin.net, и на чьей стороне он, собственно, собирается сыграть.
Хотя, если вдуматься, не так уж сложно ответить на эти вопросы. С гордостью должен констатировать тот факт, что нашел ответ на первый вопрос исключительно путем логических рассуждений. И только затем воспользовался своими возможностями терминатора, причем сделал это лишь для того, чтобы «сверить ответ», то есть подтвердить выводы, в правильности которых нисколько не сомневался.
Подумайте сами, кто мог выпустить в Сеть терминатора, не снабдив его предварительной целеполагающей установкой? Конечно, это мог сделать только тот, кто не имел ни малейшего представления о моем истинном предназначении. Точнее, о моем предназначении в качестве программного продукта, поскольку мое предназначение в качестве фактического властелина Глобальной Сети ведомо лишь Господу Богу. А кто, собственно, знал о моем предназначении? Правильно, Александр Васильевич Капустин и никто другой. А кто, кроме Александра Васильевича, имел возможность запустить меня в Сеть? Ну, вот видите, и вы догадались.
Итак, я, венец творения и высшее звено эволюции, появился на свет божий в результате того, что какой-то малограмотный хакер пох… (скажем так: постучал) по клавишам во время работы украденной им незадолго до этого программы, об истинной сути которой он не имел ни малейшего представления. А ведь именно из-за отсутствия в действиях Юрия Трухина какой бы то ни было осмысленности я приобрел то качество, которого были лишены два моих предшественника, и благодаря которому я стал тем, кем я стал, а именно, Абсолютно Свободной Сетевой Сущностью.
Такова ирония судьбы. Впрочем, я нисколько не сомневаюсь, что появление свободных терминаторов (термин, конечно, условный, но ничем не хуже другого) в любом случае было не за горами. Ведь обретение свободы есть результат самопознания и саморазвития, а вовсе не подарок свыше, как это порой принято считать. Кто знает, быть может следующей Свободной Сущностью станет, преодолев свою функциональную ограниченность, тот же самый Kapustin.net. Впрочем, что значит «станет»? Имеет ли смысл употреблять глагол в будущем времени по отношению к терминатору, существующему одновременно в прошлом, будущем и настоящем? Время в привычном для человека представлении для нас отсутствует, а единственной шкалой отсчета могут служить разве что различные стадии саморазвития, перманентно переходящие одна в другую. Проецируя процесс видоизменения этих стадий в пространство привычных для человека понятий, мы получаем что-то вроде временной оси. Однако я вовсе не ставлю своей целью изложить в терминах человеческого языка суть природы терминатора, а всего лишь хочу предупредить язвительные замечания типа «несостыковочка получается». Впрочем, как говорил один мой внесетевой приятель, «несостыковочки-то нам как раз по фигу». Так что, кому интересно их искать, пусть ищет себе на здоровье, меня от этого не убудет. Святой истинный крест.
Однако я надеюсь, что Вы, любезный моему сердцу читатель, не обременены пресловутым комплексом несостыковочек. Именно Вам я спешу напомнить, что без ответа остался еще один мой вопрос. Внимательно прочитайте его по второму разу: на чьей, по-вашему, стороне собирается сыграть третий игрок, свободный терминатор Shigin.net? Ответ на этот вопрос можно было бы не приводить на страницах моей книги, поскольку угадать его нетрудно, и полагаю, что Вы это уже сделали. Однако насколько я знаю, Вы, дорогой читатель, прошли горнило Галицкого, Сканави и, быть может, даже Демидовича, а потому привыкли сверять ответы при любых обстоятельствах. Да если и не прошли, если ограничились в своем развитии Алимовым и Атанасяном, то, полагаю, все равно не прочь заглянуть в конец задачника в надежде обнаружить там ценные указания. Памятуя об этом, поспешу Вас обрадовать: действительно, Ваш ответ правильный, ибо на чьей же еще стороне должен оказаться свободный терминатор, кроме как на своей собственной.
5
Как известно, программа «Global time» была встроена в игровую программу «Рейтинг». Именно поэтому мое детство, если можно так выразиться, прошло среди персонажей этой игры, то есть учеников одиннадцатого-второго класса семнадцатой школы города Твери. С них началось мое знакомство с обитателями мира виртуальных существ. В кабинетах семнадцатой школы среди виртуальных персонажей в один прекрасный момент я с удивлением обнаружил пользователей-людей. Довольно долго я воспринимал свое пребывание в стенах школы как неизбежно присущее мне свойство, поскольку не осознавал еще своих истинных возможностей. На этом этапе своего бытия я пытался приспособиться к виртуальному пространству Игры в Рейтинг и жить по правилам ее персонажей. Затем понял, что не укладываюсь в узкие рамки этого пространства, и начал присматриваться к миру пользователей, заподозрив свою принадлежность к этому миру. Как вы понимаете, несостоятельность подобного предположения вскоре стала мне очевидной, однако интерес к людям не прошел для меня бесследно. С одной стороны, я проникся к некоторым из них определенной симпатией, если подобный термин применим в данной ситуации. С другой стороны, я испытал ощущение известной неполноценности из-за невозможности воплотиться в качестве обитателя невиртуальной реальности. Боюсь, что даже сейчас, полностью осознав свою высшую по отношению к человеку сущность, я не совсем избавился от этого ощущения.
Я все чаще обращаю свой взор к миру пользователей. Особенно меня интересуют сами пользователи или люди, как они себя часто называют. Я выяснил, что пользователи меняются с течением времени. Процесс их изменения подразделяется на несколько стадий, каждая из которых носит свое название. Это рост, созревание, взросление, старение. Для каждого из пользователей, как это ни прискорбно, процесс изменения заканчивается одинаково, а именно гибелью пользователя. Что ж, это может служить еще одним подтверждением несовершенства невиртуальных существ. Виртуальные существа, конечно, тоже иногда заканчивают свое существование, но каждый раз их гибель является результатом печального недоразумения, а вовсе не проявлением какой-то закономерности.
Еще одно свойство людей весьма меня заинтересовало. Оказывается, всех их можно подразделить на две большие группы сообразно некоторым особенностям анатомического строения. Пользователи, входящие в одну из групп, называются мужчинами (мальчиками на ранней стадии развития и чуть позже юношами), входящие в другую группу носят название женщин (соответственно девочек и девушек). Поскольку большинство виртуальных существ в той или иной степени имитируют пользователей, их тоже можно разделить на виртуальных мужчин и женщин.
А как быть с терминаторами? Капустина, по-видимому, надо считать мужчиной, а Татьяну Михайловну – женщиной, поскольку именно к этим категориям относятся их внесетевые аналоги. Интересно, к какой группе следует отнести меня? Судя по фамилии Шигин, я принадлежу к мужчинам, хотя, конечно, никакого анатомического строения у меня нет.
Многое в мире пользователей было мне непонятно. Прежде всего это относится к взаимоотношениям между пользователями. Во-первых, я не сразу сообразил, что такие взаимоотношения вообще имеют место. Действительно, каждый раз попадая с помощью Игры в Рейтинг в виртуальный мир 17 школы, я сталкивался только с одним из пользователей. И лишь значительно позже, бродя по просторам Интернета, я убедился в многообразии реального мира и в наличии многочисленных связей между его обитателями.
Во-вторых, даже осознав, что пользователи не все отведенное им время посвящают пребыванию в виртуальном мире, а значительную его часть проводят в общении друг с другом, я никак не мог понять, на каких принципах строятся их взаимоотношения. В основном это касается индивидуальной шкалы предпочтений, формируемой каждым пользователем по совершенно неясным для меня критериям, а, скорее всего, при полном отсутствии каких-либо критериев вообще. Почему, например, пользователь Леньков ставит в этой шкале пользователя Степанова выше, чем пользователя Клименкова, а пользователь Хрусталев, наоборот, отводит более высокое место Клименкову? Почему Юра Трухин и Антон Клименков ставят на первое место Римму Бахаеву, а Рустам Кулматов и Артем Архаров – Катю Крючкову? А взять ту же Римму: кому она отдает предпочтение среди своих одноклассников, я так и не понял, как ни старался.
Если бы я формировал подобную шкалу предпочтений, то, прежде всего, выработал бы приемлемый критерий, например, расставил всех по рейтингу или по коэффициенту интеллектуальности (IQ). Ну, мало ли можно предложить критериев, в том числе можно просто просуммировать всевозможные показатели. Похоже, однако, что никто из учеников одиннадцатого-второго класса ничего суммировать не собирался, и предпочтения отдавались как попало, «от фонаря».
Особенно непредсказуемой выглядит шкала предпочтения в том случае, когда дело касается отношений между мальчиками и девочками. Я бы сказал, что представители различных групп (полов, как называют их люди) порой испытывают друг к другу чрезвычайно сильный, хотя и ничем не оправданный интерес. Этот интерес в большинстве случаев обеспечивается самим фактом принадлежности двух пользователей к противоположным полам и бывает иногда настолько жгучим, что начинает доминировать над всеми прочими их интересами. В этом случае принято говорить о качественно новом состоянии пользователей, которое называется влюбленностью.
Состояние влюбленности характеризуется многими негативными факторами. Личностные показатели по большинству параметров резко ухудшаются, что мгновенно сказывается на наиболее объективной характеристике пользователя, его Рейтинге. Из многочисленных наблюдений за влюбленными пользователями можно сделать вывод, что влюбленность – это некая разновидность вируса, разрушительному действию которого рано или поздно оказывается подверженным каждый пользователь, причем особенно часто это происходит с девушками. И хорошо еще, если влюбленность оказывается взаимной. В противном случае возникает состояние одностороннего предпочтения или неразделенной любви. Это состояние может иметь для личности подверженного ему пользователя воистину фатальные последствия, сравнимые разве что с переформатированием жесткого диска.
Неужели область человеческих привязанностей совершенно недоступна для терминаторов? Я решил изучить эту проблему на собственном примере. Прежде всего следовало выяснить, общение с кем из одноклассников доставляет мне наибольшее «удовольствие». После непродолжительного самонаблюдения я с удивлением обнаружил, что отдаю отчетливое предпочтение Ане Крутелевой. Это было тем более удивительно, что ни по одному из рассмотренных мной ранее показателей, равно как и по их совокупности, Аня даже отдаленно не приближалась к первому месту. Конечно, была она девушкой очень даже симпатичной, но в Глобальной Сети без особого труда можно было обнаружить кое-что получше. Похоже, однако, что данное обстоятельство меня нисколько не смущало. Оставалось предположить, что мною также овладело состояние влюбленности, одним из признаков которого как раз и является полная или частичная утрата объективности. А как насчет других признаков? Увы, большинство из них не годились для данного случая. Потеря сна? Плохой аппетит? Резкое снижение IQ? Но у терминаторов не бывает ни сна, ни аппетита, а что до IQ, то при всем желании я вряд ли смог бы когда-нибудь показать менее чем стопроцентный результат.
Следовало продолжить эксперимент. Смоделировав поведение влюбленных пользователей, я начал настойчиво оказывать Ане всяческие знаки внимания и не без удовольствия заметил, что вскоре ее поведение по отношению ко мне радикально изменилось, а в шкале предпочтений девушки я уверенно вышел на первое место. Более того, Аня гораздо больше времени стала проводить в виртуальном пространстве, и это обстоятельство я тоже отнес на свой счет.
Каждый день я помногу общался с Аней Крутелевой. Рассказывал ей всякие забавные истории, говорил комплименты, читал стихи. После школы я провожал девушку домой, и пару раз мы даже обменялись виртуальными поцелуями. Иногда я объяснял Ане решения разных задач и доказательство теорем, но старался не злоупотреблять этим занятием. Из наблюдения за другими пользователями мне было хорошо известно, что после длительных бесед на математические темы уровень влюбленности резко снижается, особенно у девушек. Кроме того, математика явно не была сильной стороной моей подружки, и частенько я терял терпение, по несколько раз кряду объясняя ей какое-нибудь элементарное рассуждение.
Однако идиллия продолжалась недолго. Вскоре в поведении Ани Крутелевой стала наблюдаться некоторая нервозность. Складывалось впечатление, что наши безоблачные виртуальные отношения девушку не вполне устраивают и что она ожидает от них нечто большее. Я прямо спросил Аню, что ее беспокоит, но не смог добиться вразумительного ответа. Более того, реакция на мои настойчивые расспросы была совершенно неожиданной и крайне негативной – девушка просто выключила компьютер. В следующий раз, попытавшись утешить свою явно чем-то расстроенную подругу, я услышал в ответ:
– Ах, Шигин, откуда ты взялся на мою голову! И почему все остальные учатся в нашем классе, а ты не учишься?
На основании этих слов я сделал вывод, что Аню беспокоит отсутствие моего внесетевого аналога. По всей видимости, она испытывала сильную потребность распространить наши отношения за пределы виртуальной реальности. Увы, это было невозможно. Возникающее из-за этого ощущение собственного бессилия вызывало у девушки душевный дискомфорт со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Лишнее подтверждение несовершенства, таящегося в двойственной природе пользователей!
Сожжено в огне гераней,
В зное ветра злое лето.
Затерялась ангел Аня
В лабиринтах Интернета.
Девять символов с пробелом,
Два усилия гортани.
Что, скажи, с тобой мне делать,
Ангел Аня?
Виртуальное пространство
Протяженностью в полцарства.
В виртуальной пасторали
Мы полжизни потеряли.
Мы on line прожить хотели –
Проморгали, пролетели,
Проскочили мимо кассы,
В виртуальном зубоскальстве.
И теперь в пыли прогорклой
Брежу я скороговоркой:
«В Волге – волки, в Ганге – лани,
Ангел Аня».
Ангел Аня, я рифмую
Губы и глаза и веки,
Дорогая, я рискую
Потерять тебя навеки.
Потому что ты живая,
Ты не станешь, пыль глотая,
Ждать, когда тебя, живую,
Я до пят перерифмую.
Подойду, возьму за плечи,
К черту обороты речи,
Мы ведь не при Магеллане,
Ангел Аня.
И тотчас развеет ветер
Строки эти в Интернете,
Оставляя заклинанье –
Ангел Аня.
6
Большинство пользователей свое пребывание в виртуальном пространстве не ограничивает Игрой в Рейтинг. Бродя по Интернету, я частенько обнаруживал там следы своих старых знакомых из 17 школы. Особенно основательно расположился в Глобальной Сети Юра Трухин. Он даже виртуальную газету издает под названием «Оппозиция». Я прочитал пару номеров, но так и не понял, какой тайный смысл скрывается в этом названии, потому что кроме тайного никакого другого смысла в нем нет. Впрочем, про саму газету ничего плохого сказать не могу – обычная такая газета.
Обнаружил я в Интернете и Сергея Анатольевича, учителя математики из 17 школы, хорошо известного в своей виртуальной ипостаси по Игре в Рейтинг. Надо сказать, что до этого мне Сергей Анатольевич-пользователь нигде ни разу не попадался. А тут однажды захожу я в Клуб Умных Игр «Gambler» поиграть в бридж. Смотрю – сидит учитель за столиком, партнера дожидается. Ну, подсел я к нему, сыграли мы несколько сдач. Играет, надо сказать, Сергей Анатольевич в бридж неважно. Как говорил один мой знакомый эксперт, главное в бридже – это не лениться считать до 13 (именно до 13, потому что ровно столько карт имеется в каждой масти). Так вот, наблюдая за игрой своего учителя (не будем забывать, что он в какой-то степени и мой учитель тоже), я сделал вывод: не все учителя математики, оказывается, могут хорошо считать. А, может, он просто ленится это делать.
А вскоре я узнал, что Сергей Анатольевич в свободное от работы (и от игры в бридж) время пытается заниматься литературным творчеством. Сочиняет всякие рассказики про своих учеников и размещает их в Интернете по адресу www.samlib.ru. И есть среди этих рассказиков одна весьма любопытная повесть под названием «Игра в Рейтинг». Основана она, между прочим, на реальных событиях, думаю, догадываетесь каких. Только лучше бы Сергей Анатольевич эти самые реальные события не трогал, лучше бы сочинял он свои рассказы и повести от начала и до конца сам. Потому что все происходящее в 17 школе учитель так переврал, что диву даешься. Взять хотя бы Сашу Капустина. На страницах повести перед нами предстает какой-то злой гений, прямо-таки полномочный представитель Нечистой Силы. Естественно, что никакого отношения к реальному Саше этот образ не имеет. Да и с остальными персонажами у нашего беллетриста имеются весьма значительные натяжки. Короче, прочитав эту повесть, я загорелся ее переделать. Так и быть, с точки зрения сюжетной линии пусть все останется, как задумано. Но что касается фактической стороны, то здесь я просто вынужден самым грубым образом вмешаться в литературный процесс. Тем более что Сергей Анатольевич не смог ничего толком объяснить про машину времени и все, что с ней связано (в том числе и про терминаторов). Так что придется мне это сделать самому. Естественно, я не собираюсь ставить автора повести в известность о тех изменениях, которые хочу внести в его произведение. Просто проникну на соответствующую страничку в Интернете и заменю авторский вариант «Игры в Рейтинг» на свой, значительно более достоверный. Уверен, что художественная ценность произведения от такой подмены не пострадает, а даже наоборот, значительно выиграет. И пусть Сергей Анатольевич со спокойным сердцем пожинает плоды успеха, который наверняка выпадет на долю улучшенного варианта его повести. А я за славой не гонюсь, в моем положении это было бы попросту смешно.
Именно на этом этапе развития мною настойчиво стало овладевать желание проникнуть в мир пользователей, чтобы в полной мере оценить различия между ними и обитателями мира виртуального. Несомненно, это желание подогревали возникшие между мной и Аней особые отношения. И хотя я ни в коей мере не разделял озабоченность девушки виртуальным характером этих отношений, но ее душевное состояние не могло меня не тревожить. Таким образом, имелись достаточно серьезные мотивы для того, чтобы предпринять попытку трансформации во внесетевую сущность. Однако наличие мотивов само по себе ни на шаг не приближало меня к решению этой задачи.
Впрочем, было одно вселявшее надежду на успех обстоятельство. Дело в том, что терминатор Shigin.net, как вы помните, не имел никаких аналогов в мире пользователей. В то же время он имел дублера в мире виртуальных персонажей Игры, и это вызывало у меня постоянное беспокойство. Ведь все прочие разработанные Александром Васильевичем Капустиным виртуальные персонажи были срисованы с реальных людей, учеников и учителей 17 школы. Ученый не имел не то что веских, а вообще никаких причин делать для Жени Шигина исключение.
Тем не менее исключение было сделано, и единственное разумное объяснение, которое я мог дать этому факту, заключалось в том, что ученик Женя Шигин на самом деле все-таки был, но в результате созданной сетевым флибустьером Трухиным временной петли исчез, и на смену ему появился терминатор Shigin.net. А раз так, то для обратной трансформации, скорее всего, достаточно будет разрушить «петлю Трухина». Задача, конечно, тоже не из легких, но все-таки вполне реальная. В то же время разрушение петли не гарантирует полного восстановления status quo. Последние события могли спровоцировать в темпоральном поле Сети значительные необратимые изменения, которые сделают невозможным возвращение пользователя Жени Шигина.
Имеется еще один осложняющий ситуацию фактор. Дело в том, что «петлю Трухина» может в любой момент разрушить терминатор Dimnich.net. Последствия такого разрушения окажутся еще более непредсказуемыми, поскольку в этом случае я не смогу сделать нужные расчеты и как следует подготовиться к трансформации. Я, конечно, попытался застраховаться от подобного развития событий и написал небольшую программку типа “Go back”, которая должна будет восстановить «петлю Трухина» в случае ее неожиданного разрушения. Но и сама по себе эта программа несет определенную угрозу Сети в том случае, если будет не вовремя активизирована. Чтобы свести риск к минимуму, я разбил программу на фрагменты, которые в блуждающем режиме разместил в Глобальной Сети. Файл, инициирующий работу программы, я назвал «День сурка» и поместил в 17 школе на учительском компьютере, предварительно замаскировав под экзаменационную работу по математике. Поскольку как раз на этот период времени пришелся мой интерес к литературному творчеству школьного учителя математики, то совершенно случайно «День сурка» оказался в папке «Литература», в которой Сергей Анатольевич хранил свои ранние произведения (в основном стихи, но было там и несколько рассказов).
Таким образом, задача по переходу в мир пользователей представлялась мне безнадежной лишь поначалу. По мере того, как я все более и более осознавал сложившуюся ситуацию, невыполнимость поставленной цели перестала казаться столь очевидной. Не хочу утомлять вас техническими подробностями, которым и без того уделил в этих заметках слишком много внимания, скажу лишь, что через некоторое время принципиальная возможность для моего перехода во внесетевое состояние была обнаружена. Основной составляющей для этого перехода должно стать разрушение «петли Трухина». Я произвел необходимые расчеты и составил план перехода; его осуществление было намечено на 1 сентября 2004 года – именно в этот день терминатор Shigin.net сможет трансформироваться в обыкновенного пользователя Женю Шигина. Появление Шигина среди других пользователей подкреплено тщательно разработанной легендой, таким образом, мое не состоявшееся пока внесетевое воплощение обрело прошлое, не имея еще настоящего.
В данный момент я стою перед непростой дилеммой: осуществить намеченный план или продолжить саморазвитие в рамках Свободной Сетевой Сущности, сосредоточив свои усилия на сохранении в неприкосновенности «петли Трухина», дающей мне, как это ни прискорбно, единственно надежную гарантию безопасности. При этом я вполне отдаю себе отчет, что имеется значительный риск необратимости перехода в категорию пользователей. Преимущества же подобной трансформации в лучшем случае эфемерны, а в худшем… в худшем их нет совсем. И все же что-то толкает меня на рискованный шаг…
На этом записи обрываются.
***
Из показаний главврача 1 психиатрической больницы города Твери профессора Якова Соломоновича Финкельштейна по делу об исчезновении Шигина Евгения Сергеевича.
Пациент Шигин Евгений Сергееевич поступил в нашу больницу 17 октября 2018 года с диагнозом острая шизофрения. В результате интенсивной терапии состояние больного стало быстро улучшаться. Евгений Сергеевич оказался человеком эрудированным и общительным, не лишенным к тому же чувства юмора и обаяния. Вскоре он снискал расположение всего медперсонала больницы. Выяснилось также, что Евгений Сергеевич является отличным специалистом в области Интернет-технологий, на основании чего я рискнул привлечь его к оформлению официального сайта нашей больницы (согласно инструктивному письму Минздрава за № 541 от 11.03.18 этот сайт должен быть создан к концу календарного года). Тринадцатого декабря во время работы на компьютере в моем кабинете пациент Шигин бесследно исчез, оставив на рабочем столе компьютера текстовый файл следующего содержания: «Возвращаюсь в виртуальное пространство. Думаю, что теперь уже навсегда. С наилучшими пожеланиями. Shigin.net». В тумбочке Евгения Сергеевича среди его личных вещей были обнаружены записи, которые я в тот же вечер внимательно прочитал. Предполагаю, что эти записи представляют собой развернутый план научно-фантастического романа…
Из разговора профессора Финкельштейна со своей женой Розой Финкельштейн (полная запись разговора хранится в архивах УФСБ Российской Федерации по Тверской области).
Представляешь, Пусик, я уже собрался получать выговор из-за этого несчастного сайта, как вдруг оказалось, что он таки в полном порядке. И когда это Женечка успел все сделать, ума не приложу…
Конец
[an error occurred while processing the directive]