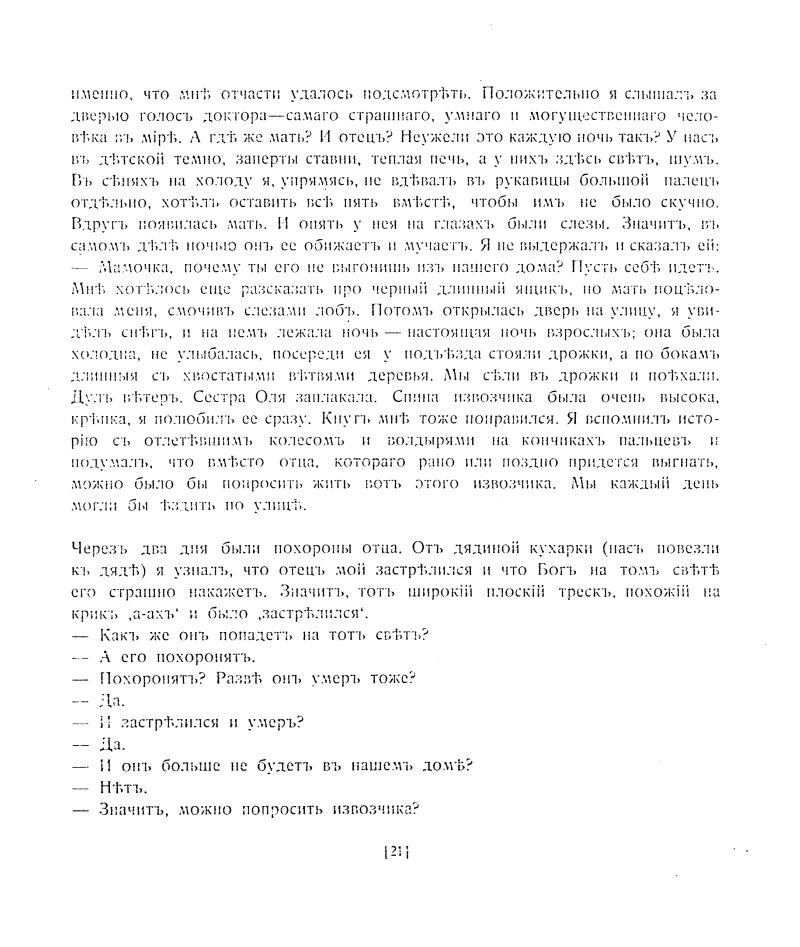Журнал "Аполлон"
Номер 1, 1909 год
Содержание
именно, что мне отчасти удалось подсмотреть. Положительно я слышал за дверью голос доктора—самого страшного, умного и могущественного человека в мире. А где же мать? И отец? Неужели это каждую ночь так? У нас в детской темно, заперты ставни, теплая печь, а у них здесь свет, шум. В сенях на холоду я, упрямясь, не вдевал в рукавицы большой палец отдельно, хотел оставить все пять вместе, чтобы им не было скучно. Вдруг появилась мать. И опять у неё на глазах были слезы. Значит, в самом деле ночью он ее обижает и мучает. Я не выдержал и сказал ей:
— Мамочка, почему ты его не выгонишь из нашего дома? Пусть себе идет. Мне хотелось еще рассказать про черный длинный ящик, но мать поцеловала меня, смочив слезами лоб. Потом открылась дверь на улицу, я увидел снег, и на нем лежала ночь — настоящая ночь взрослых; она была холодна, не улыбалась, посереди её у подъезда стояли дрожки, а по бокам длинные с хвостатыми ветвями деревья. Мы сели в дрожки и поехали. Дуль ветер. Сестра Оля заплакала. Спина извозчика была очень высока, крепка, я полюбил ее сразу. Кнут мне тоже понравился. Я вспомнил историю с отлетевшим колесом и волдырями на кончиках пальцев и подумал, что вместо отца, которого рано или поздно придется выгнать, можно было бы попросить жить вот этого извозчика. Мы каждый день могли бы ездить по улице.
Через два дня были похороны отца. От дядиной кухарки (нас повезли к дяде) я узнал, что отец мой застрелился, и что Бог на том свете его страшно накажет. Значит, тот широкий плоский треск, похожий на крик «а-ах» и было «застрелился».
— Как же он попадет на тот свет?
— А его похоронят.
— Похоронят? Разве он умер тоже?
— Да
— И застрелился, и умер?
— Да.
— И он больше не будет в нашем доме?
— Нет. Значит, можно попросить извозчика?
— Какого извозчика?