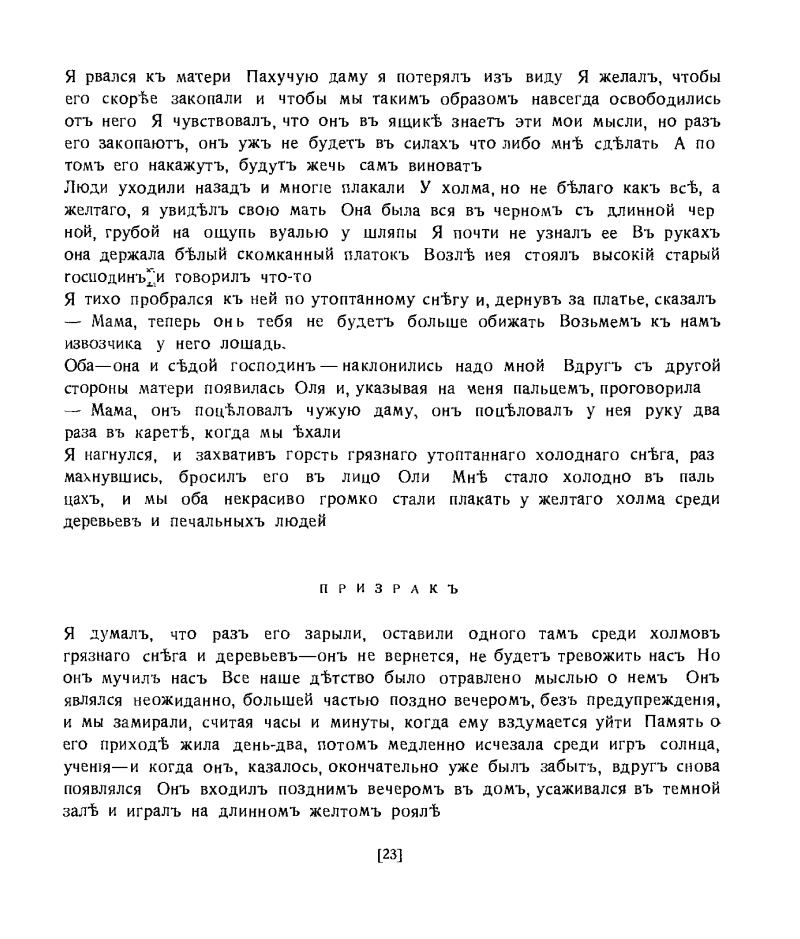Журнал "Аполлон"
Номер 1, 1909 год
Содержание
Я рвался к матери. Пахучую даму я потерял из виду. Я желал, чтобы его скорее закопали, и чтобы мы таким образом навсегда освободились от него. Я чувствовал, что он в ящике знает эти мои мысли, но раз его закопают, он уж не будет в силах что либо мне сделать. А потом его накажут, будут жечь — сам виноват.
Люди уходили назад и многие плакали. У холма, но не белого как все, а желтого, я увидел свою мать Она была вся в черном с длинной черной, грубой на ощупь вуалью у шляпы. Я почти не узнал ее. В руках она держала белый скомканный платок. Возле неё стоял высокий старый господин и говорил что-то.
Я тихо пробрался к ней по утоптанному снегу и, дернув за платье, сказал:
— Мама, теперь он тебя не будет больше обижать. Возьмем к нам извозчика у него лошадь.
Оба — она и седой господин — наклонились надо мной. Вдруг с другой стороны матери появилась Оля и, указывая на меня пальцем, проговорила:
— Мама, он поцеловал чужую даму, он поцеловал у неё руку два раза в карете, когда мы ехали.
Я нагнулся, и захватив горсть грязного утоптанного холодного снега, размахнувшись, бросил его в лицо Оли. Мне стало холодно в пальцах, и мы оба некрасиво громко стали плакать у желтого холма среди деревьев и печальных людей.
ПРИЗРАК
Я думал, что раз его зарыли, оставили одного там, среди холмов грязного снега и деревьев — он не вернется, не будет тревожить нас. Но он мучил нас. Все наше детство было отравлено мыслью о нем. Он являлся неожиданно, большей частью поздно вечером, без предупреждения, и мы замирали, считая часы и минуты, когда ему вздумается уйти. Память о его приходе жила день-два, потом медленно исчезала среди игр, солнца, учения — и когда он, казалось, окончательно уже был забыт, вдруг снова появлялся. Он входил поздним вечером в дом, усаживался в темной зале и играл на длинном желтом рояле.