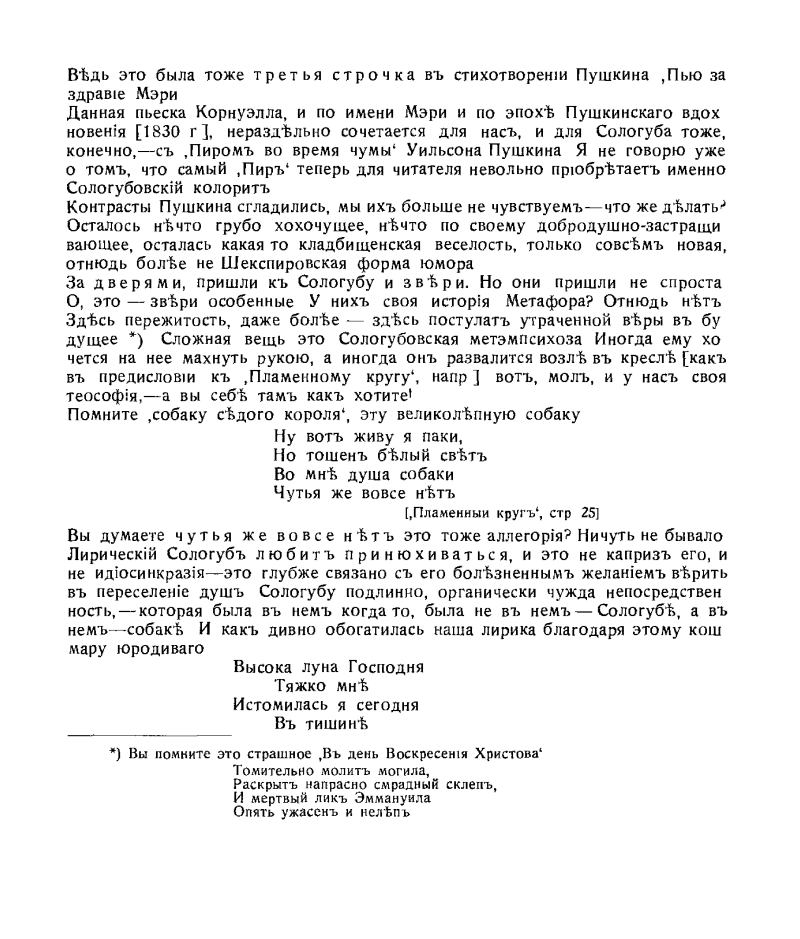Журнал "Аполлон"
Номер 1, 1909 год
Содержание
Ведь это была тоже третья строчка в стихотворении Пушкина "Пью за здравие Мэри".
Данная пьеска Корнуэлла, и по имени Мэри и по эпохе Пушкинского вдохновения [1830 г], нераздельно сочетается для нас, и для Сологуба тоже, конечно, — с "Пиром во время чумы" Уильсона-Пушкина. Я не говорю уже о том, что самый "Пир" теперь для читателя невольно приобретает именно Сологубовский колорит.
Контрасты Пушкина сгладились, мы их больше не чувствуем — что же делать? Осталось нечто грубо хохочущее, нечто по своему добродушно-застращивающее, осталась какая то кладбищенская веселость, только совсем новая, отнюдь более не Шекспировская форма юмора.
За дверями, пришли к Сологубу и звери. Но они пришли не спроста. О, это — звери особенные. У них своя история. Метафора? Отнюдь нет. Здесь пережитость, даже более — здесь постулат утраченной веры в будущее.*) Сложная вещь эта Сологубовская метемпсихоза. Иногда ему хочется на нее махнуть рукою, а иногда он развалится возле в кресле [как в предисловии к "Пламенному кругу", напр.]: вот, мол, и у нас своя теософия, — а вы себе там как хотите! Помните "собаку седого короля", эту великолепную собаку
Ну вот живу я паки,
Но тошен белый свет.
Во мне душа собаки,
Чутья же вовсе нет.
["Пламенный круг", стр. 25]
Вы думаете чутья же вовсе нет это тоже аллегория? Ничуть не бывало. Лирический Сологуб любит принюхиваться, и это не каприз его, и не идиосинкразия — это глубже связано с его болезненным желанием верить в переселение душ. Сологубу подлинно, органически чужда непосредственность, — которая была в нем когда-то, была не в нем — Сологубе, а в нем — собаке. И как дивно обогатилась наша лирика благодаря этому кошмару юродивого
Высока луна Господня.
Тяжко мне.
Истомилась я сегодня
В тишине.
*) Вы помните это страшное "В день Воскресения Христова":
Томительно молит могила,
Раскрыт напрасно смрадный склеп,
И мертвый лик Эммануила
Опять ужасен и нелеп.