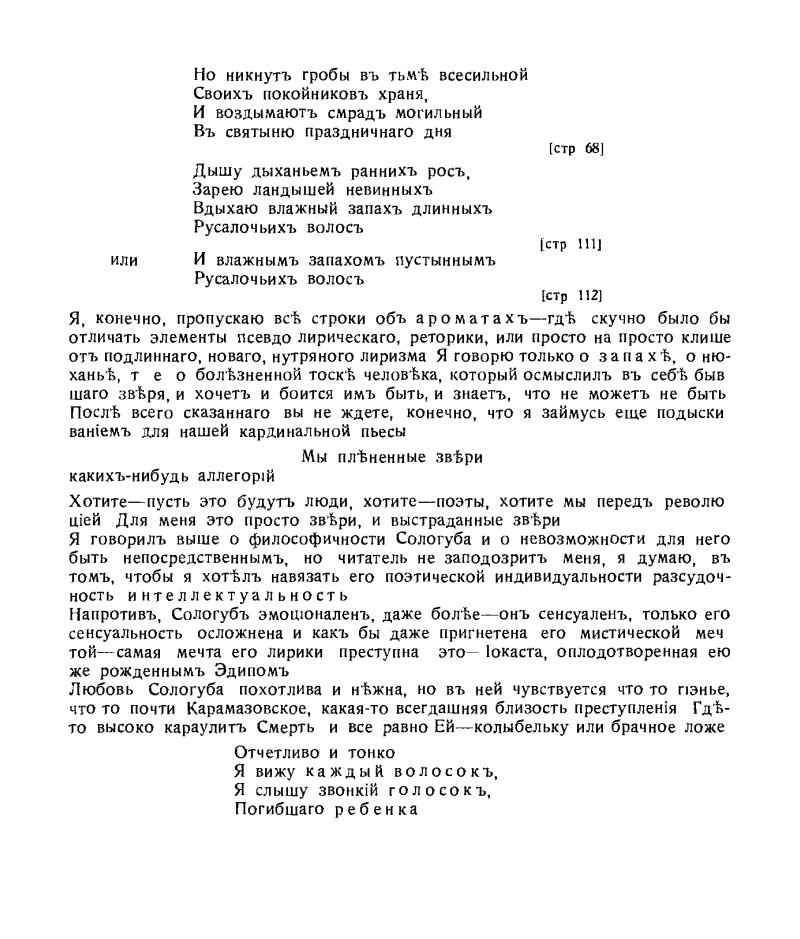Журнал "Аполлон"
Номер 1, 1909 год
Содержание
Но никнут гробы в тьме всесильной,
Своих покойников храня,
И воздымают смрад могильный
В святыню праздничного дня.
[стр. 68]
Дышу дыханьем ранних рос,
Зарею ландышей невинных;
Вдыхаю влажный запах длинных
Русалочьих волос.
[стр. 111]
или
И влажным запахом пустынным
Русалочьих волос.
[стр. 112]
Я, конечно, пропускаю все строки об ароматах — где скучно было бы отличать элементы псевдолирического, риторики, или просто на просто клише от подлинного, нового, нутряного лиризма. Я говорю только о запахе, о нюханье, т. е. о болезненной тоске человека, который осмыслил в себе бывшего зверя, и хочет и боится им быть, и знает, что не может не быть. После всего сказанного вы не ждете, конечно, что я займусь еще подыскиванием для нашей кардинальной пьесы
Мы плененные звери
каких-нибудь аллегорий.
Хотите — пусть это будут люди, хотите — поэты, хотите мы перед революцией. Для меня это просто звери, и выстраданные звери. Я говорил выше о философичности Сологуба и о невозможности для него быть непосредственным, но читатель не заподозрит меня, я думаю, в том, чтобы я хотел навязать его поэтической индивидуальности рассудочность, интеллектуальность.
Напротив, Сологуб эмоционален, даже более — он сенсуален, только его сенсуальность осложнена и как бы даже пригнетена его мистической мечтой — самая мечта его лирики преступна, это — Иокаста, оплодотворенная ею же рожденным Эдипом.
Любовь Сологуба похотлива и нежна, но в ней чувствуется что то гиэнье, что то почти Карамазовское, какая-то всегдашняя близость преступления. Где-то высоко караулит Смерть и все равно Ей — колыбельку или брачное ложе.
Отчетливо и тонко
Я вижу каждый волосок;
Я слышу звонкий голосок,
Погибшего ребенка