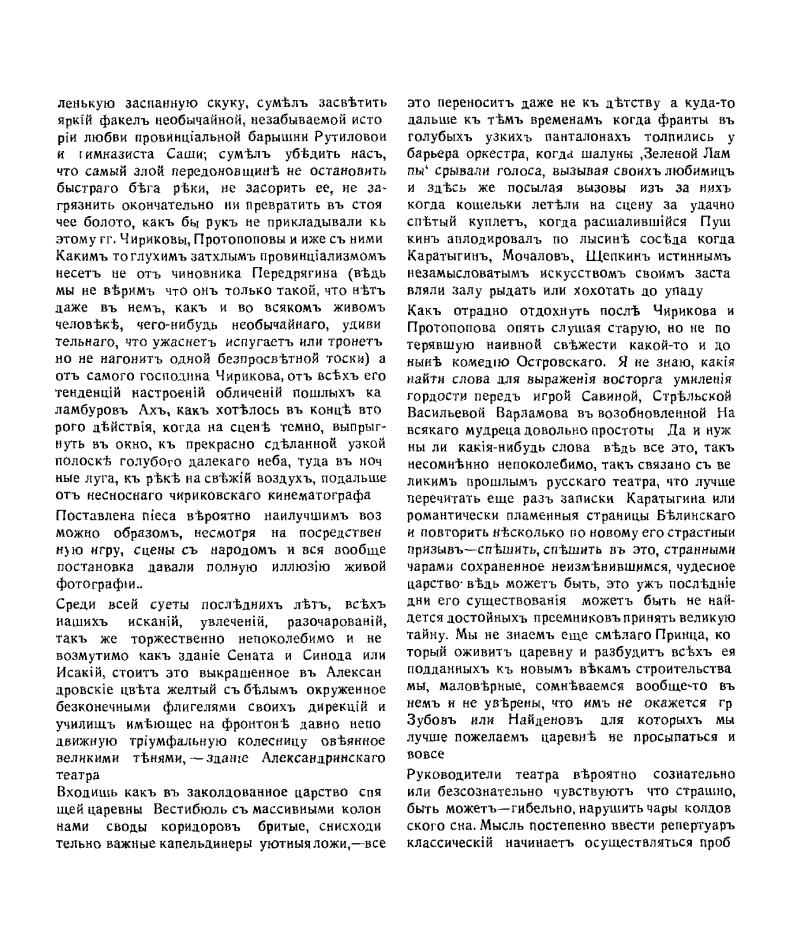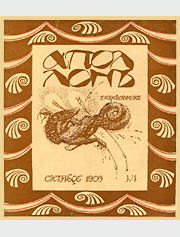
Журнал "Аполлон"
Номер 1, 1909 год
Содержание
ленькую заспанную скуку, сумел засветить яркий факел необычайной, незабываемой истории любви провинциальной барышни Рутиловой и гимназиста Саши, сумел убедить нас, что самый злой передоновщине не остановить быстрого бега реки, не засорить ее, не загрязнить окончательно ни превратить в стоячее болото, как бы рук не прикладывали к этому гг. Чириковы, Протопоповы и иже с ними. Каким-то глухим, затхлым провинциализмом несет не от чиновника Передрягина (ведь мы не верим что он только такой, что нет даже в нем, как и во всяком живом человеке, чего-нибудь необычайного, удивительного, что ужаснет, испугает или тронет, но не нагонит одной беспросветной тоски), а от самого господина Чирикова, от всех его тенденций, настроений обличений, пошлых каламбуров Ах, как хотелось в конце второго действия, когда на сцене темно, выпрыгнуть в окно, к прекрасно сделанной. узкой полоске голубого далекого неба, туда в ночные луга, к реке, на свежий воздух, подальше от несносного чириковского кинематографа. Поставлена пиеса вероятно наилучшим возможно образом, несмотря на посредственную игру, сцены с народом и вся вообще постановка давали полную иллюзию живой фотографии..
Среди всей суеты последних лет, всех наших исканий, увлечений, разочарований, так же торжественно непоколебимо и невозмутимо, как здание Сената и Синода или Исакий, стоит это выкрашенное в Александровские цвета желтый с белым, окруженное бесконечными флигелями своих дирекций и училищ, имеющее на фронтоне давно неподвижную триумфальную колесницу, овеянное великими тенями, — здание Александринского театра.
Входишь как в заколдованное царство спящей царевны. Вестибюль с массивными колоннами, своды коридоров, бритые, снисходительно важные капельдинеры, уютные ложи, — все это переносит даже не
к детству а куда-то дальше, к тем временам, когда франты в голубых узких панталонах толпились у барьера оркестра, когда шалуны "Зеленой Лампы" срывали голоса, вызывая своих любимиц и здесь же посылая вызовы из за них, когда кошельки летели на сцену за удачно спетый куплет, когда расшалившийся Пушкин аплодировал по лысине соседа, когда Каратыгин, Мочалов, Щепкин истинным незамысловатым искусством своим заставляли залу рыдать или хохотать до упаду.
Как отрадно отдохнуть после Чирикова и Протопопова, опять слушая старую, но не потерявшую наивной свежести какой-то и доныне комедию Островского. Я не знаю, какие найти слова для выражения восторга умиления, гордости перед игрой Савиной, Стрельской, Васильевой, Варламова в возобновленной "На всякого мудреца довольно простоты". Да и нужны ли какие-нибудь слова, ведь все это, так несомненно непоколебимо, так связано с великим прошлым русского театра, что лучше перечитать еще раз записки Каратыгина или романтически пламенные страницы Белинского и повторить несколько по-новому его страстный призыв — спешить, спешить в это, странными чарами сохраненное неизменившимся, чудесное царство,- ведь может быть, это уж последние дни его существозания, может быть, не найдется достойных преемников принять великую тайну. Мы не знаем еще смелого Принца, который оживит царевну и разбудит всех её подданных к новым векам строительства, мы, маловерные, сомневаемся вообще-то в нем и не уверены, что им не окажется гр. Зубов или Найденов, для которых мы лучше пожелаем царевне не просыпаться и вовсе.
Руководители театра вероятно сознательно или бессознательно чувствуют, что страшно, быть может, — гибельно, нарушить чары колдовского сна. Мысль постепенно ввести репертуар классический начинает осуществляться проб-