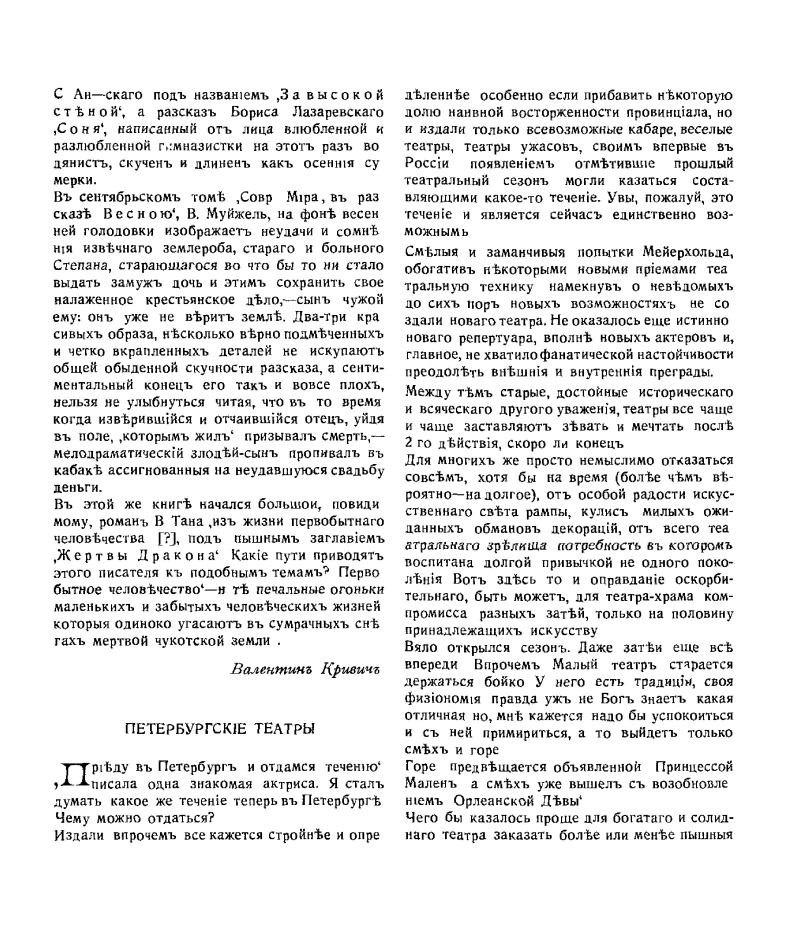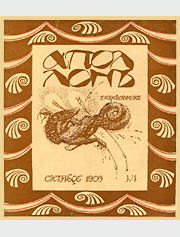
Журнал "Аполлон"
Номер 1, 1909 год
Содержание
С. Ан-ского под названием "3а высокой стеной", а рассказ Бориса Лазаревского "Соня", написанный от лица влюбленной и разлюбленной гимназистки, на этот раз водянист, скучен и длинен, как осенние сумерки.
В сентябрьском томе "Совр. Мира", в рассказе "Весною", В. Муйжель, на фоне весенней голодовки изображает неудачи и сомнения извечного землероба, старого и больного Степана, старающегося во что бы то ни стало выдать замуж дочь и этим сохранить свое налаженное крестьянское дело, — сын чужой ему: он уже не верит земле. Два-три красивых образа, несколько верно подмеченных и четко вкрапленных деталей не искупают общей обыденной скучности рассказа, а сентиментальный конец его так и вовсе плох, нельзя не улыбнуться, читая, что в то время когда изверившийся и отчаявшийся отец, уйдя в поле, "которым жил" призывал смерть, — мелодраматический злодей-сын пропивал в кабаке ассигнованные на неудавшуюся свадьбу деньги.
В этой же книге начался большой, по-видимому, роман В. Тана "из жизни первобытного человечества" [?], под пышным заглавием "Жертвы Дракона". Какие пути приводят этого писателя к подобным темам? "Первобытное человечество" — и те печальные огоньки маленьких и забытых человеческих жизней, которые одиноко угасают в сумрачных снегах мертвой чукотской земли .
Валентин Кривич
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ
"Приеду в Петербург и отдамся течению" — писала одна знакомая актриса. Я стал думать, какое же течение теперь в Петербурге? Чему можно отдаться?
Издали, впрочем, все кажется стройнее и определеннее, особенно если прибавить некоторую долю наивной восторженности
провинциала, но и издали только всевозможные кабаре, веселые театры, театры ужасов, своим впервые в России появлением отметившие прошлый театральный сезон, могли казаться составляющими какое-то течение. Увы, пожалуй, это течение и является сейчас единственно возможным.
Смелые и заманчивые попытки Мейерхольда, обогатив некоторыми новыми приемами театральную технику, намекнув о неведомых до сих пор новых возможностях, не создали нового театра. Не оказалось еще истинно нового репертуара, вполне новых актеров и, главное, не хватило фанатической настойчивости преодолеть внешние и внутренние преграды.
Между тем старые, достойные исторического и всяческого другого уважения, театры все чаще и чаще заставляют зевать и мечтать после 2-го действия, скоро ли конец.
Для многих же просто немыслимо отказаться совсем, хотя бы на время (более чем вероятно — на долгое), от особой радости искусственного света рампы, кулис милых ожиданных обманов декораций, от всего театрального зрелища, потребность в котором воспитана долгой привычкой не одного поколения. Вот здесь-то и оправдание оскорбительного, быть может, для театра-храма компромисса разных затей, только наполовину принадлежащих искусству.
Вяло открылся сезон. Даже затеи еще все впереди. Впрочем, Малый театр старается держаться бойко. У него есть традиции, своя физиономия, правда уж не Бог знает какая отличная, но, мне кажется, надо бы успокоиться и с ней примириться, а то выйдет только смех и горе.
Горе предвещается объявленной "Принцессой Мален", а смех уже вышел с возобновлением "Орлеанской Девы".
Чего бы казалось проще для богатого и солидного театра заказать более или менее пышные