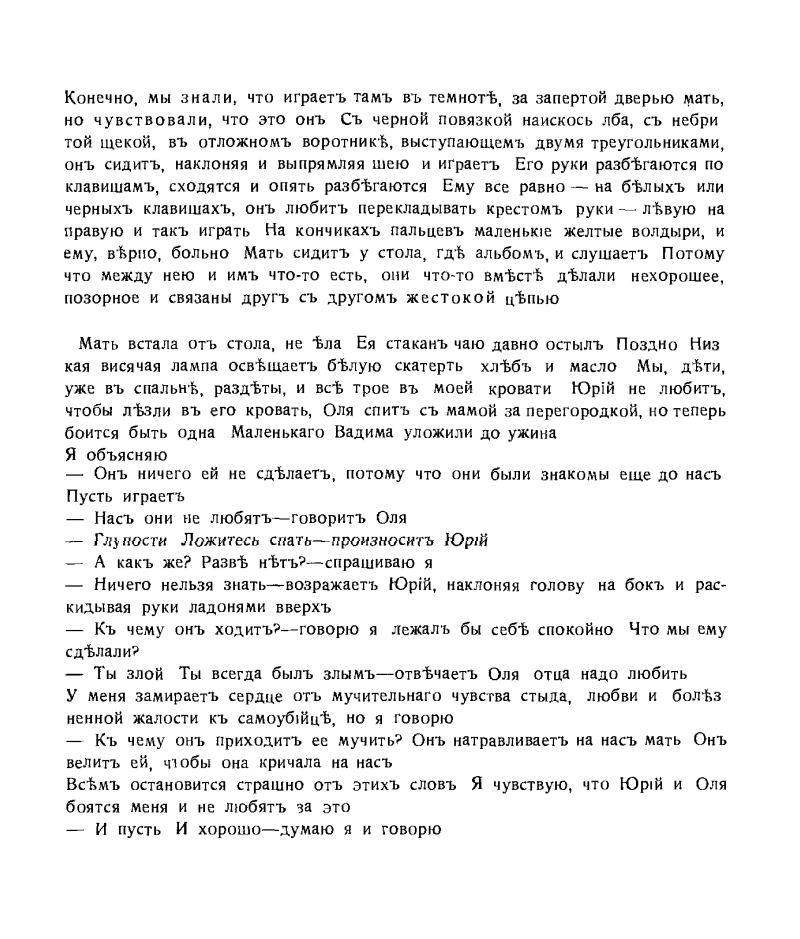Журнал "Аполлон"
Номер 1, 1909 год
Содержание
Конечно, мы знали, что играет там, в темноте, за запертой дверью мать, но чувствовали, что это он. С черной повязкой наискось лба, с небритой щекой, в отложном воротнике, выступающем двумя треугольниками, он сидит, наклоняя и выпрямляя шею, и играет. Его руки разбегаются по клавишам, сходятся и опять разбегаются. Ему все равно — на белых или черных клавишах, он любит перекладывать крестом руки — левую на правую и так играть. На кончиках пальцев маленькие желтые волдыри, и ему, верно, больно. Мать сидит у стола, где альбом, и слушает. Потому что между нею и им что-то есть, они что-то вместе делали нехорошее, позорное и связаны друг с другом жестокой цепью.
Мать встала от стола, не ела. её стакан чаю давно остыл Поздно. низкая висячая лампа освещает белую скатерть, хлеб и масло. Мы, дети, уже в спальне, раздеты, и все трое в моей кровати. Юрий не любит, чтобы лезли в его кровать, Оля спит с мамой за перегородкой, но теперь боится быть одна. Маленького Вадима уложили до ужина. Я объясняю:
— Он ничего ей не сделает, потому что они были знакомы еще до нас. Пусть играет.
— Нас они не любят, — говорит Оля.
— Глупости. Ложитесь спать, — произносит Юрий.
— А как же? Разве нет? — спрашиваю я.
— Ничего нельзя знать, — возражает Юрий, наклоняя голову на бок и раскидывая руки ладонями вверх.
— К чему он ходит? — говорю я, — лежал бы себе спокойно. Что мы ему сделали?
— Ты злой. Ты всегда был злым, — отвечает Оля — отца надо любить. У меня замирает сердце от мучительного чувства стыда, любви и болезненной жалости к самоубийце, но я говорю:
— К чему он приходит ее мучить? Он натравливает на нас мать. Он велит ей, чтобы она кричала на нас. Всем остановится страшно от этих слов. Я чувствую, что Юрий и Оля боятся меня и не любят за это.
— И пусть. И хорошо, — думаю я и говорю: