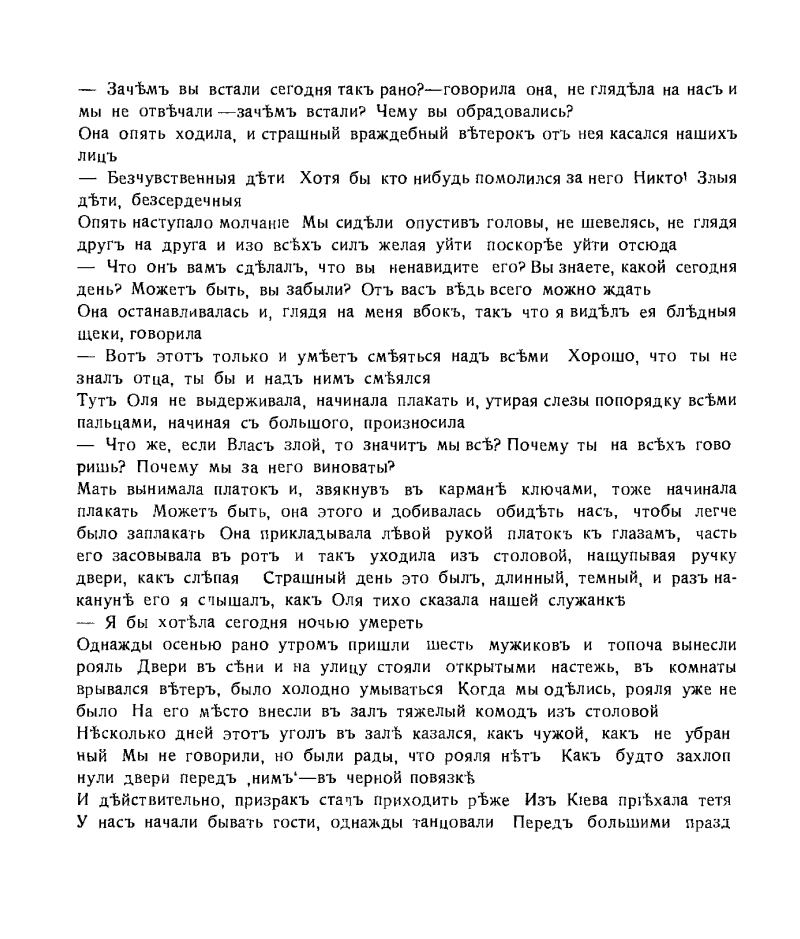Журнал "Аполлон"
Номер 1, 1909 год
Содержание
— Зачем вы встали сегодня так рано? — говорила она, не глядела на нас, и мы не отвечали, — зачем встали? Чему вы обрадовались?
Она опять ходила, и страшный враждебный ветерок от неё касался наших лиц.
— Бесчувственные дети! Хотя бы кто-нибудь помолился за него? Никто! Злые дети, бессердечные!
Опять наступало молчание. Мы сидели, опустив головы, не шевелясь, не глядя друг на друга и изо всех сил желая уйти, поскорее уйти отсюда.
— Что он вам сделал, что вы ненавидите его? Вы знаете, какой сегодня день? Может быть, вы забыли? От вас ведь всего можно ждать.
Она останавливалась и, глядя на меня вбок, так что я видел её бледные щеки, говорила:
— Вот этот только и умеет смеяться над всеми. Хорошо, что ты не знал отца, ты бы и над ним смеялся!
Тут Оля не выдерживала, начинала плакать и, утирая слезы по порядку всеми пальцами, начиная с большего, произносила.
— Что же, если Влас злой, то значит мы все? Почему ты на всех говоришь? Почему мы за него виноваты?
Мать вынимала платок и, звякнув в кармане ключами, тоже начинала плакать. Может быть, она этого и добивалась, обидеть нас, чтобы легче было заплакать? Она прикладывала левой рукой платок к глазам, часть его засовывала в рот и так уходила из столовой, нащупывая ручку двери, как слепая. Страшный день это был, длинный, темный, и раз накануне его я слышал, как Оля тихо сказала нашей служанке:
— Я бы хотела сегодня ночью умереть.
Однажды осенью рано утром пришли шесть мужиков и, топоча, вынесли рояль. Двери в сени и на улицу стояли открытыми настежь, в комнаты врывался ветер, было холодно умываться. Когда мы оделись, рояля уже не было. На его место внесли в зал тяжелый комод из столовой. Несколько дней этот угол в зале казался, как чужой, как не убранный. Мы не говорили, но были рады, что рояля нет. Как будто захлопнули двери перед "ним" — в черной повязке.
И действительно, призрак стал приходить реже. Из Киева приехала тетя. У нас начали бывать гости, однажды танцевали. Перед большими празд-