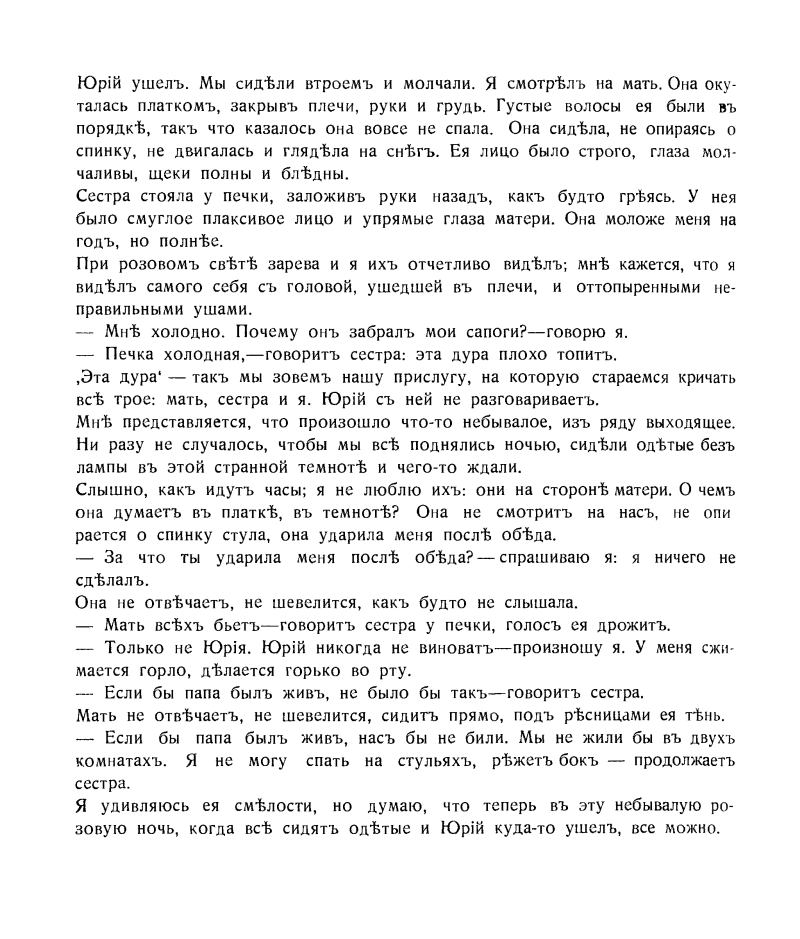Журнал "Аполлон"
Номер 1, 1909 год
Содержание
Юрий ушел. Мы сидели втроем и молчали. Я смотрел на мать. Она окуталась платком, закрыв плечи, руки и грудь. Густые волосы её были в порядке, так что казалось, она вовсе не спала. Она сидела, не опираясь о спинку, не двигалась и глядела на снег. её лицо было строго, глаза молчаливы, щеки полны и бледны.
Сестра стояла у печки, заложив руки назад, как будто греясь. У неё было смуглое плаксивое лицо и упрямые глаза матери. Она моложе меня на год, но полнее.
При розовом свете зарева и я их отчетливо видел; мне кажется, что я видел самого себя с головой, ушедшей в плечи, и оттопыренными неправильными ушами.
— Мне холодно. Почему он забрал мои сапоги? — говорю я.
— Печка холодная, — говорит сестра: эта дура плохо топит.
"Эта дура" — так мы зовем нашу прислугу, на которую стараемся кричать все трое: мать, сестра и я. Юрий с ней не разговаривает. Мне представляется, что произошло что-то небывалое, из ряду выходящее. Ни разу не случалось, чтобы мы все поднялись ночью, сидели одетые без лампы в этой странной темноте и чего-то ждали.
Слышно, как идут часы; я не люблю их: они на стороне матери. О чем она думает в платке, в темноте? Она не смотрит на нас, не опирается о спинку стула, она ударила меня после обеда.
— За что ты ударила меня после обеда? — спрашиваю я: я ничего не сделал.
Она не отвечает, не шевелится, как будто не слышала.
— Мать всех бьет — говорит сестра у печки, голос её дрожит.
— Только не Юрия. Юрий никогда не виноват — произношу я. У меня сжимается горло, делается горько во рту.
— Если бы папа был жив, не было бы так — говорит сестра.
Мать не отвечает, не шевелится, сидит прямо, под ресницами её тень.
— Если бы папа был жив, нас бы не били. Мы не жили бы в двух комнатах. Я не могу спать на стульях, режет бок — продолжает сестра.
Я удивляюсь её смелости, но думаю, что теперь в эту небывалую розовую ночь, когда все сидят одетые, и Юрий куда-то ушел, все можно.