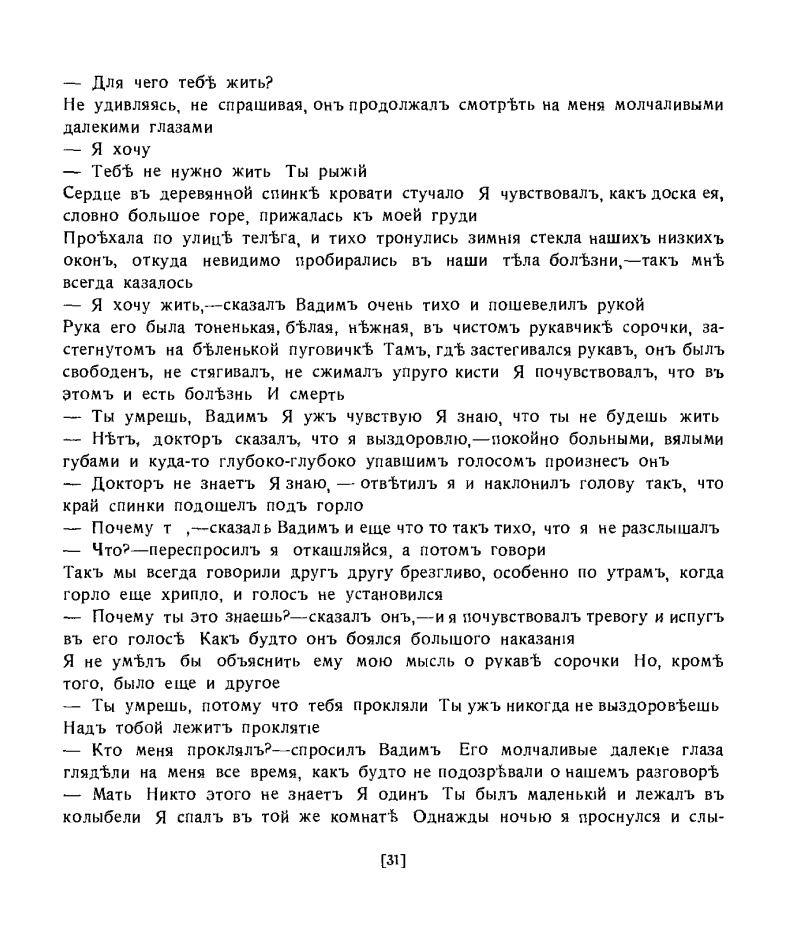Журнал "Аполлон"
Номер 1, 1909 год
Содержание
— Для чего тебе жить?
Не удивляясь, не спрашивая, он продолжал смотреть на меня молчаливыми далекими глазами.
— Я хочу.
— Тебе не нужно жить. Ты рыжий.
Сердце в деревянной спинке кровати стучало. Я чувствовал, как доска её, словно большое горе, прижалась к моей груди.
Проехала по улице телега, и тихо тронулись зимния стекла наших низких окон, откуда невидимо пробирались в наши тела болезни, — так мне всегда казалось.
— Я хочу жить, — сказал Вадим очень тихо и пошевелил рукой.
Рука его была тоненькая, белая, нежная, в чистом рукавчике сорочки, застегнутом на беленькой пуговичке. Там, где застегивался рукав, он был свободен, не стягивал, не сжимал упруго кисти. Я почувствовал, что в этом и есть болезнь. И смерть.
— Ты умрешь, Вадим. Я уж чувствую. Я знаю, что ты не будешь жить.
— Нет, доктор сказал, что я выздоровлю, — покойно больными, вялыми губами и куда-то глубоко-глубоко упавшим голосом произнес он.
— Доктор не знает Я знаю, — ответил я и наклонил голову так, что край спинки подошел под горло.
— Почему т.., — сказал Вадим и еще что то так тихо, что я не расслышал.
— Что? — переспросил я, — откашляйся, а потом говори.
Так мы всегда говорили друг другу брезгливо, особенно по утрам, когда горло еще хрипло, и голос не установился.
— Почему ты это знаешь? — сказал он, — и я почувствовал тревогу и испуг в его голосе. Как будто он боялся большего наказания.
Я не умел бы объяснить ему мою мысль о рукаве сорочки. Но, кроме того, было еще и другое.
— Ты умрешь, потому что тебя прокляли. Ты уж никогда не выздоровеешь. Над тобой лежит проклятие.
— Кто меня проклял? — спросил Вадим. Его молчаливые далекие глаза глядели на меня все время, как будто не подозревали о нашем разговоре.
— Мать. Никто этого не знает. Я один. Ты был маленький и лежал в колыбели. Я спал в той же комнате. Однажды ночью я проснулся и слы-