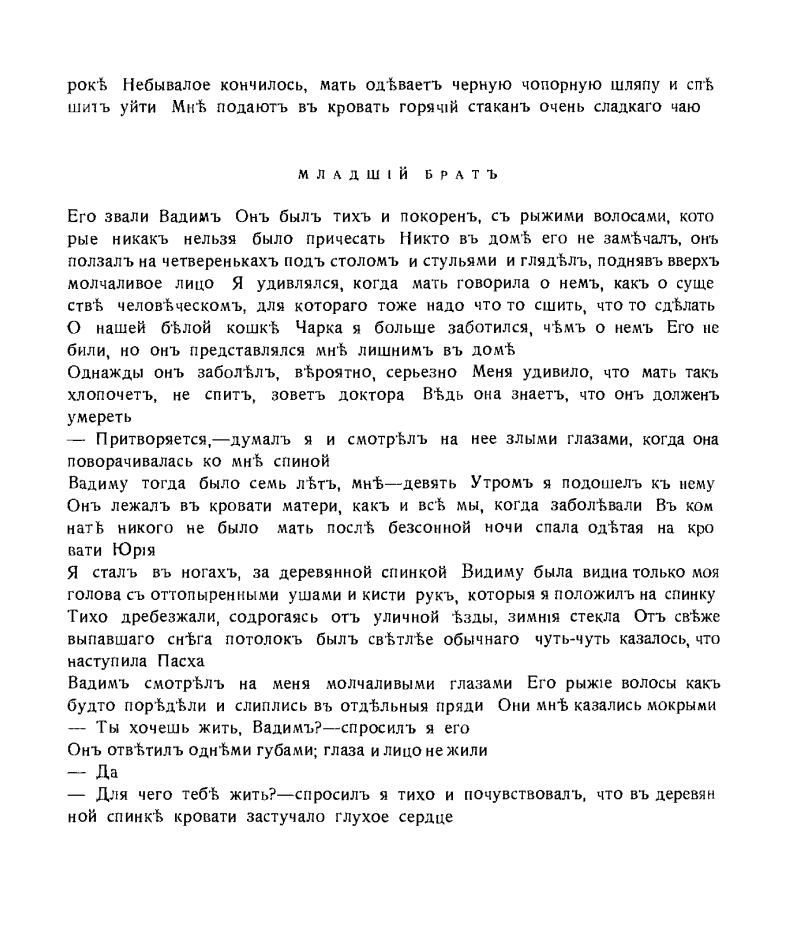Журнал "Аполлон"
Номер 1, 1909 год
Содержание
роке. Небывалое кончилось, мать одевает черную чопорную шляпу и спешит уйти. Мне подают в кровать горячий стакан очень сладкого чаю.
МЛАДШИЙ БРАТ
Его звали Вадим. Он был тих и покорен, с рыжими волосами, которые никак нельзя было причесать. Никто в доме его не замечал, он ползал на четвереньках под столом и стульями и глядел, подняв вверх молчаливое лицо. Я удивлялся, когда мать говорила о нем, как о существе человеческом, для которого тоже надо что то сшить, что то сделать. О нашей белой кошке Чарка я больше заботился, чемь о нем. Его не били, но он представлялся мне лишним в доме.
Однажды он заболел, вероятно, серьезно. Меня удивило, что мать так хлопочет, не спит, зовет доктора. Ведь она знает, что он должен умереть.
— Притворяется, — думал я и смотрел на нее злыми глазами, когда она поворачивалась ко мне спиной.
Вадиму тогда было семь лет, мне — девять. Утром я подошел к нему. Он лежал в кровати матери, как и все мы, когда заболевали. В комнате никого не было, мать после бессонной ночи спала одетая на кровати Юрия.
Я стал в ногах, за деревянной спинкой. Вадиму была видна только моя голова с оттопыренными ушами и кисти рук, которые я положил на спинку. Тихо дребезжали, содрогаясь от уличной езды, зимние стекла. От свежевыпавшего снега потолок был светлее обычного чуть-чуть, казалось, что наступила Пасха.
Вадим смотрел на меня молчаливыми глазами. Его рыжие волосы как будто поредели и слиплись в отдельные пряди. Они мне казались мокрыми.
— Ты хочешь жить, Вадим? — спросил я его.
Он ответил одними губами; глаза и лицо не жили:
— Да.
— Для чего тебе жить? — спросил я тихо и почувствовал, что в деревянной спинке кровати застучало глухое сердце.