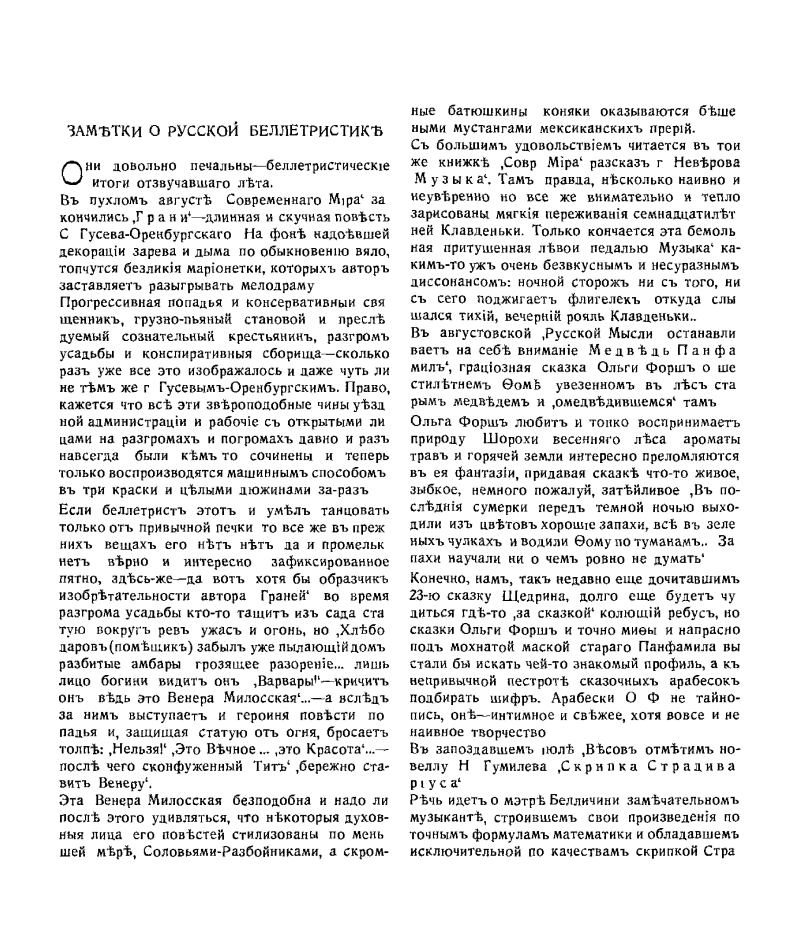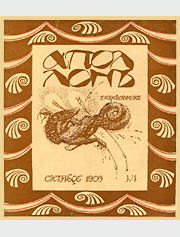
Журнал "Аполлон"
Номер 1, 1909 год
Содержание
ЗАМЕТКИ О РУССКОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКЕ
Они довольно печальны — беллетристические итоги отзвучавшего лета. В пухлом августе "Современного Мира" закончились "Грани" — длинная и скучная повесть С. Гусева-Оренбургского. На фоне надоевшей декорации зарева и дыма по обыкновению вяло топчутся безликие марионетки, которых автор заставляет разыгрывать мелодраму.
Прогрессивная попадья и консервативный священник, грузно-пьяный становой и преследуемый сознательный крестьянин, разгром усадьбы и конспиративные сборища — сколько раз уже все это изображалось и даже чуть ли не тем же г. Гусевым-Оренбургским. Право, кажется что все эти звероподобные чины уездной администрации и рабочие с открытыми лицами на разгромах и погромах давно и раз навсегда были кем-то сочинены и теперь только воспроизводятся машинным способом в три краски и целыми дюжинами за раз.
Если беллетрист этот и умел танцевать только от привычной печки, то все же в прежних вещах его нет-нет да и промелькнет верно и интересно зафиксированное пятно, здесь же — да вот хотя бы образчик изобретательности автора Граней: во время разгрома усадьбы кто-то тащит из сада статую; вокруг рев, ужас и огонь, но "Хлебодаров (помещик) забыл уже пылающий дом, разбитые амбары, грозящее разорение... лишь лицо богини видит он "Варвары!" — кричит он, — "ведь это Венера Милосская"... — а вслед за ним выступает и героиня повести, попадья, и, защищая статую от огня, бросает толпе: "Нельзя!" "Это Вечное... это Красота".... — после чего "сконфуженный Тит "бережно ставит Венеру".
Эта Венера Милосская бесподобна и надо ли после этого удивляться, что некоторые духовные лица его повестей стилизованы по меньшей мере, Соловьями-Разбойниками, а скромные батюшкины коняки
оказываются бешеными мустангами мексиканских прерий.
С большим удовольствием читается в той же книжке "Совр. Мира" рассказ г. Неверова "Музыка". Там, правда, несколько наивно и неуверенно, но все же внимательно и тепло зарисованы мягкие переживания семнадцатилетней Клавденьки. Только кончается эта бемольная притушенная левой педалью "Музыка" каким-то уж очень безвкусным и несуразным диссонансом: ночной сторож ни с того, ни с сего поджигает флигелек, откуда слышался тихий, вечерний рояль Клавденьки..
В августовской "Русской Мысли" останавливает на себе внимание "Медведь Панфамил", грациозная сказка Ольги Форш о шестилетнем Фоме, увезенном в лес старым медведем и "омедведившемся" там.
Ольга Форш любит и тонко воспринимает природу. Шорохи весеннего леса, ароматы трав и горячей земли интересно преломляются в её фантазии, придавая сказке что-то живое, зыбкое, немного пожалуй, затейливое "В последние сумерки перед темной ночью выходили из цветов хорошие запахи, все в зеленых чулках и водили Фому по туманам... Запахи научали ни о чем ровно не думать".
Конечно, нам, так недавно еще дочитавшим 23-ю сказку Щедрина, долго еще будет чудиться где-то "за сказкой" колющий ребус, но сказки Ольги Форш и точно мифы и напрасно под мохнатой маской старого Панфамила вы стали бы искать чей-то знакомый профиль, а к непривычной пестроте сказочных арабесок подбирать шифр. Арабески О. Ф. не тайнопись, они — интимное и свежее, хотя вовсе и не наивное творчество.
В запоздавшем июле "Весов" отметим новеллу Н. Гумилева "Скрипка Страдивариуса".
Речь идет о мэтре Белличини, замечательном музыканте, строившем свои произведения по точным формулам математики и обладавшем исключительной по качествам скрипкой Стра-